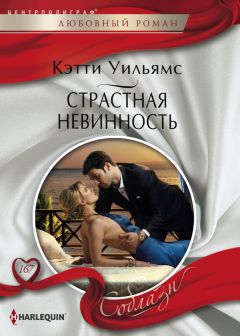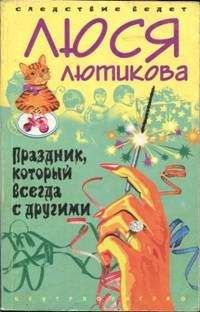Анатолий Черняев - Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972–1991
Разочарование, что не Горбачев, а Черненко был избран Генеральным секретарем после смерти Андропова, окончательно убедило в безнадежности и государственной безответственности высшего руководства страны, пораженного маразмом и старческим эгоизмом. Горбачев хорошо воспользовался этим, наращивая свою активность и демонстрируя интеллектуальное и политическое превосходство над «коллегами».
Объективная обстановка благоприятствовала его восхождению. Сгущались краски всеобщего застоя (этот термин употребляется в записях задолго до того, как он стал официально «партийным»). Экономика деградировала. Сельское хозяйство окончательно лишилось способности накормить страну: треть хлеба импортировалось, истощая золотой запас и поглощая большую часть нефтедолларов. Утаиваемый от населения колоссальный государственный долг — в условиях падения мировых цен на нефть — грозил вот-вот финансовым крахом.
Рычаги управления отказывали. Вопиющая картина бездарности, серости и лживости, перерождения обюрократившихся начальников демонстрировались каждый раз при отчетах министров и секретарей обкомов на заседаниях Секретариата ЦК КПСС и в Политбюро.
По роду занятий автора записок ему особенно была видна губительная неадекватность главных персон, ведавших международными делами. Громыко и его замы, Устинов, Пономарев, Русаков, Рахманин. являли собой полную неспособность реагировать на перемены во внешнем мире — на социально-политические последствия НТР в западном обществе, на «мирное наступление Рейгана», на недовольство социалистических союзников своим положением сателлитов, на фактический «уход от нас» и распад большинства звеньев международного коммунистического движения, который начался задолго до того, как мы, КПСС, прекратили оплачивать «братские партии».
«Узбекское дело» во главе с первым секретарем компартии союзной республики Рашидовым обнаружило не только «трансформацию» социалистического порядка в восточную квазидеспотию, но и полный провал национальной политики искоренения ислама с помощью окультуривания на европейско-русский манер и насаждения интернационалистской атеистической идеологии.
Тем не менее, вряд ли можно было найти в СССР человека, который в состоянии был бы предвидеть, что члены ЦК КПСС, а некоторые потом и члены Политбюро, возглавят в бывших советских республиках самодержавные и даже профашистские режимы.
Цинизм, раболепие, погоня за должностями, званиями, орденами поразили большую часть т. наз. «творческой» интеллигенции и научную среду. Более того, в этом году отчетливо стали проступать — и в номенклатуре партийно-государственной, и в среде интеллигенции, да и в духовно обесточенной широкой массе «простого народа» — последствия того копившегося десятилетиями морально-политического разложения, которое потом, когда был снят тоталитарный колпак, позволило так легко загубить Перестройку, а разрушительной и воровской ельцинской «элите» — овладеть властью и собственностью нации.
Наряду с этим очевидны были также и признаки идеологической оппозиционности среди части интеллигенции, требования свободы мысли (под прикрытием возвращения к «ленинским нормам»). Ползучее, неоформленное, часто не осознанное диссидентство становилось все более влиятельным в художественной и научной литературе, в кино, в живописи. Оно проникало и в верхний эшелон интеллигентского партийного аппарата. Это находило отражение, в частности, в «творчестве» спичрайтеров. Генсек (и другие «вожди») публично и в беседах с иностранцами говорили такое, с чем никогда бы не согласились, если бы понимали суть красиво написанного для них. Произносимые ими тексты и «культурно» оформленные заявления расходились с их взглядами и догмами, противоречили самому их менталитету и всему тому, что они делали и как себя вели на своих постах. В результате еще более явной становилась лживость власти и ее интеллектуальная беспомощность.
Горбачев все это видел. Понимал, что страна потеряла ориентировку, что идейная и физическая болезнь общества достигли высокой степени. Однако в том, что он делал и говорил, по крайней мере в этот период, невозможно различить сомнений в основах системы, порочной в самой ее сталинистской природе. Он верил, что болезнь излечима и что лекарем может стать (как бывало не раз за 70 лет) и будет партия,… очищенная от скверны, налепившейся на ней после Ленина. Он верил в чистоту и нравственную силу идей ленинизма, в притягательность и авторитет иконизированного образа Ленина. И, конечно, полагался на дисциплину, проще говоря, покорность кадров, привыкших делать то, что придумает и прикажет «Центральный Комитет». в лице Генерального секретаря. Надеялся и на энтузиазм, который может вызвать новизна замыслов и «больших целей».
Записки этого года проникнуты отчаянием автора перед лицом глупости, подлости, бездарности и своекорыстия стоявших над ним и рядом с ним разных деятелей, так или иначе влиявших на положение в стране, на политику. Его угнетало безразличие к судьбам страны в близкой ему среде, среди его коллег и «подчиненных», их цинизм и стремление увильнуть от своих обязанностей. Местами он выглядит почти единственно «хорошим» среди них. Это не от нескромности, а от безнадежности, которая толкала его с энтузиазмом воспринимать малейшие обнадеживающие признаки, одно время — даже видеть их в текстах, произносимых Черненко. Суждения автора о своих коллегах резки и порой несправедливы, хотя и опираются на факты. Теперь-то ему ясно, что их поведение и отношение к «делу» объяснялось нежеланием «выкладываться» ради того, во что они не верили и что по заслугам презирали (как и главных носителей этого «дела»). Но они, доктора и кандидаты наук, продолжали ему служить, как и автор записок, у которого, наверное, было более обостренное «чувство ремесла»: если что-то делаешь, делай хорошо, независимо от того, куда пойдет твой продукт.
Характерно, однако, что ни один из коллег и друзей автора по консультантской группе Международного отдела ЦК КПСС не «нашел себя» и «не устроился» при новом режиме в новой России.
1985 год
Отстаю от событий. А они суетны.
Огорчился перед Новым годом за Пономарева: Косолапов, когда спрашивал разрешения напечатать в «Коммунисте» написанное нами для Б. Н. заключение к восьмитомнику «Международного рабочего движения», получил от Зимянина указание — снять сноску, что это — заключение, пусть, мол, будет просто статья… Зимянин теперь так распоряжается в отношении Б. Н., будучи ниже чином! Но главное в другом — он отражает «мнение», что не надо в официальном партийном органе фиксировать связь Пономарева (на многие 10-летия вперед) с этим фундаментальным изданием… Т. е. готовят нашего Б. Н. к выносу. Думаю, он не переживет XXYII съезд, во всяком случае, в качестве секретаря ЦК.