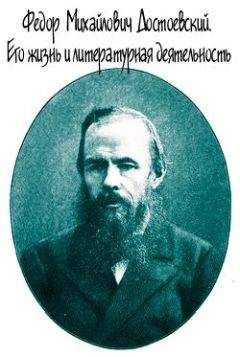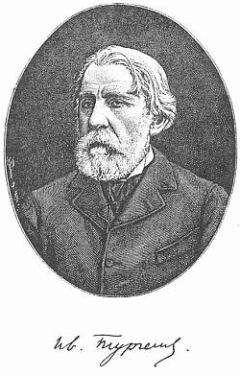Евгений Соловьев - Александр Герцен. Его жизнь и литературная деятельность
«Прислушиваясь к различным суждениям, дивишься, как может ум дойти до того, чтобы в одно и то же время совместить в свой нравственный кодекс стоические сентенции Катона и Сенеки, романтически восторженные выходки Средних веков, самоотверженные нравоучения благочестивых отшельников степей фиваидских и своекорыстные правила политической экономии. Безобразие подобного смешения принесло свой плод – именно мертвую мораль, мораль, существующую только на словах, а в самом деле недостойную управлять поступками: современная мораль не имеет никакого влияния на наши действия; это – милый обман, нравственная благопристойность, одежда – не более. У каждого человека за этой официальной моралью есть свой припрятанный esprit deconduite; официально он будет плакать о том, что бедный беден, официально он благородным львом вступится за честь женщины; privatim[21] – он берет страшные проценты, privatim он считает себя вправе обесчестить женщину, если условился с нею в цене. Постоянная ложь, постоянное двоедушие сделали то, что меньше диких порывов и вдвое больше плутовства, что редко человек скажет оскорбительное слово другому в глаза и почти всегда очернит его за глаза; в Париже я меньше встречал шуринеров и эскарпов,[22] нежели мушаров,[23] потому что на первое ремесло надобно иметь откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе – только двоедушие и подлость. Наполеон с отвращением говорил о гнусной привычке беспрестанно лгать. Мы лжем на словах, лжем движениями, лжем из учтивости, лжем из добродетели, лжем из порочности; лганье это, конечно, много способствует растлению, нравственному бессилию, в котором родятся и умирают целые поколения, в каком-то чаду и тумане проходящие по земле. Между тем и это лганье сделалось совершенно естественным, даже моральным; мы узнаем человека благовоспитанного по тому, что никогда не добьешься от него, чтобы он откровенно сказал свое мнение.
Возьмите мелочи жизни, самое обыденное, скромное существование. Здесь особенно много непонимания, особенно резко отсутствие жизни. Люди никак не могут заставить себя серьезно подумать о том, что они делают дома с утра до ночи; они тщательно хлопочут и думают обо всем: о картах, о крестах, об абсолютном, о вариационном исчислении, о том, когда лед пойдет по Неве; но о ежедневных, будничных отношениях, обо всех мелочах, к которым принадлежат семейные тайны, хозяйственные дела, отношения к родным, близким, присным, слугам и пр., – об этих вещах ни за что на свете не заставить подумать: они готовы, выдуманы. Паскаль говорит, что люди для того играют в карты, чтобы не оставаться никогда долго наедине с собою, чтобы не дать развиться угрызениям совести. Очень вероятно, что, руководствуясь тем же инстинктом, человек не любит рассуждать о семейных тайнах, – а не пора ли бы им выйти на свет?» «Зачем, кажется, прятать под спудом то, что не боится света; да и, в сущности, это все равно, прячь не прячь – все обличится; с каждым днем меньше тайн…» «Изредка какое-нибудь преступление, совершенное в этом мраке частной жизни, пугнет на день, на другой людей, стоявших возле, заставит их задуматься», и потом все, как стоячая вода, опять покрывается плесенью. «К тому же чтобы преступление обратило на себя внимание, надобно, чтобы оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы в этом отношении похожи на французских классиков, которые если шли в театр, то для того, чтобы посмотреть, как цари, герои или, по крайней мере, полководцы и наперсники их кровь проливают, а не для того, чтобы видеть мещански проливаемые слезы. Людям необходимы декорации, обстановка, надпись; мещанин во дворянстве очень удивился, узнавши, что он сорок лет говорит прозой, – мы хохочем над ним, а многие лет сорок делали злодеяния и умерли лет восьмидесяти, не зная этого, потому что их злодеяния не подходили ни под какой параграф кодекса, – и мы не плачем над ними».
«Бедная, жалкая жизнь! – восклицает Герцен, которого постоянно теснили воспоминания о Перми, Вятке и других стоячих водах. – Не могу с нею свыкнуться… Пусть человек, гордый своим достоинством, приедет в Малинов посмотреть на тамошнее общество и смирится. Больные в доме умалишенных менее бессмысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся к одним призракам, по горло в грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть. Тесные, узкие понятия, грубые, животные желания. Ужасно и смешно! В природе есть какая-то сардоническая логика, по которой она безжалостно развивает нелепости чрезвычайно последовательно. И именно в этих-то развитиях тесно спаян, как в шекспировских драмах, глубоко трагический элемент с уморительно смешным. И жаль их от души, и не удержишься от смеха! Бедные люди! Они под тяжелым фатумом; виноваты ли они, что с молоком всосали в себя понятия нечеловеческие, что воспитанием они исказили все порывы, заглушили все высшие потребности? Так же не виноваты, как альбиносы, которые вдыхают в себя северный болотный воздух, лишающий их сил и заражающий их организм».
В этом стоячем болоте, на этой почве загнанного, запуганного разума разыгрываются порою страшные, но часто незаметные драмы. Одной из них Герцен посвятил свой роман «Кто виноват?»
Здесь он выводит на сцену людей честных, хороших, гуманных; все они любят друг друга, все они самым искренним образом желают осчастливить один другого. А между тем в конце концов они делают друг друга несчастными, гибнут. Их жизнь, их любовь, как камень, брошенный в стоячую воду, быстро пошла ко дну, чуть-чуть разогнав плесень в месте падения, но прошла минута, и плесень сдвинулась, и снова мертвое молчание, мертвая тишина.
Пошлая мораль не затруднится найти причину гибели. Она скажет, что влюбленные погибли оттого, что отдались своей страсти, забыли закон и долг, не подавили своих чувств. Будут забыты борьба, муки, вынесенные ими, и торжествующая официальная добродетель еще раз в великолепных напыщенных выражениях заявит о своем превосходстве и скажет: горе вам, не подчиняющимся мне…
Причину, разумеется, надо искать не в личностях, а в противоречиях жизни, любви и брака, страсти и филистерства.
«Кто виноват?» – иллюстрация нравственной философии Герцена: как у гегельянца она построена на развитии и примирении противоречий. Мы знаем главнейшие из этих последних: разум и предрассудки, личное чувство и общепринятые формы общественной морали, семья и общество. В этих противоречиях проходит грустная бессмысленная человеческая жизнь. И как из них выпутаться, как и чем примирить их? Держаться средины, не приставая ни к одному берегу? К сожалению, это невозможно. Разум и предрассудки – огонь и вода, что-нибудь да должно победить, а другое – погибнуть. Личное чувство, раз оно не ужилось с общепринятыми формами морали, должно или затаиться глубоко в сердце, или гордо провозгласить свою независимость, несмотря ни на что. Примиримо лишь третье противоречие – между семьей и обществом – примиримо путем гармонического слияния того и другого начал.