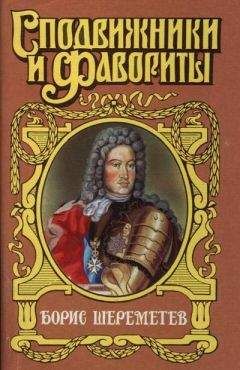Михаил Пробатов - Я – Беглый
И мы с ребятами немного выпили, закусили, чаю напились и спать легли до утра. Вдруг, понимаешь, слышу я сквозь сон — несколько машин подъехало. Я вскочил, как встрёпанный. Кричу, ребята, подъем! И — к окну. А за окном тишина. Небо чистое, звёздное, ни снежинки в воздухе. И лёд завален, наверное, сантиметров на пятьдесят. А эти сволочи, слышим, протопали уже в раздевалку. И кто-то крикнул:
— Свет давай на лёд!
Что было делать? Я рубильник дёрнул, все люстры над полем вспыхнули. И мы в окно глядим, как они в коньках уже вышли, человек пять, потоптались у кромки снега, о чём-то поговорили и пошли в помещение, обратно в раздевалку. Ещё минут через пятнадцать, а может и меньше, но мне показалось, время медленно так тянется, какой-то офицер в дверях остановился:
— Кто бригадир?
— Я!
— Выходи. Тебя нарком хочет видеть.
Я вышел и увидел сразу Ежова. Я его видел не раз. Маленький, худенький такой.
— Почему не убран снег?
— Виноват, — говорю. — Вечером был сильный снегопад и мы думали, что…
— Они думали, — сказал Ежов и засмеялся. — Ты, значит, думал? Любишь думать?
— Иногда, — говорю.
— Иногда любишь думать? Почему иногда? Ну, ничего, и это тоже хорошо. У тебя будет время подумать. Мы тебе создадим для этого условия. И ты поймёшь, что думать нужно не иногда, а всегда. Хотя, вообще-то, тебя сюда поставили совсем не для того, чтоб ты думал.
И он рукой так как-то сделал, что они сразу поняли, и я, конечно, тоже: «В машину!».
Привезли меня на Лубянку. И безо всяких расспросов, даже документов не спросили, а заперли в какую-то пустую комнату. Я пить хочу, голова после водки трескается. Гляжу бачок с краном, а кружки нету. Кое-как из горстей попил. Огляделся. Не похоже на камеру. Но здорово похоже на карцер, потому что нар нет. Голые стены и цементный пол. Ни табуретки, ни койки — ничего совсем. На полу бачок с водой, вода, видимо, была кипячёная, раз такая тёплая, но привкус какой-то, вроде карболкой отдаёт. И параши нет. Я, было постучал. Из-за дверей откликаются:
— Чего надо?
— До ветру отведи, товарищ.
— Тебе тамбовский волк товарищ. Оправка в семь тридцать утра.
Тут я разозлился. Я ещё не сразу в себя-то пришёл:
— Гляди, — говорю, — я тогда в угол нассу, приспичило, что, не понятно?
— Чего не понять? Попробуй. Ради интересу. Поглядишь тогда, что будет.
И тут мне страшно стало. Мне уж и до ветру не охота. А было тогда, дураку, всего-то двадцать один год. Мне от армии отсрочка, как я работник стадиона «Динамо». И я недавно женился. Жена в этом месяце рожать должна. Сел я на холодный пол и заплакал. Так тяжко мне стало. В груди, понимаешь, досада горит. Как так, пропасть за ерунду. А ведь пропал, точно пропал! Какое-то время прошло, замок загремел:
— Выходи на отправку!
Отвели меня в сортир. Я спрашиваю:
— Гражданин дорогой, а сколько сейчас времени?
— Тебе же сказано, семь часов тридцать минут. Быстрей оправляйся, — и так всё со злобой говорит, и смотрит чистым зверем.
— Как думаешь, сколько мне дадут?
— Да все твои будут. Впереди лошади-то не беги. Успеешь ещё, — и, гад, смеётся.
— А курить дадут?
— Ага, — отвечает, — дадут. А потом догонят и ещё добавят…
Потом принесли мне миску какого пойла — суп, не суп, ошмётки какие-то плавают. И кружку бурды — это заместо чаю. Время там — вот именно, что не идет, а тянется… День проходит, два. Я жрать хочу, аж в животе всё ходит ходуном. А приносят какую-то ерунду. И никто ни о чём не спрашивает меня, никто не отвечает мне ничего. Вот ещё отчего страшно. С одним я всё ж разговорился:
— Ты, — говорю, — случайно не из Нижнего родом, у тебя, слышь, говор-то… Я нижегородский сам.
— Нет, — отвечает, — я ярославский. Да ты земляков-то себе не ищи тут. Это ни к чему тебе совсем. Молчи больше, Это будет лучше, — но этот был, видно, жалостливый человек. Он дал мне докурить окурок свой, а потом подумал и ещё папиросу дал про запас.
Вот, поверишь, я там пять суток проторчал. Курить нечего, и меня кашель бьёт, а может простудился. Сильно там было холодно. Пробовал я Богу молиться, как мать учила: «Отче наш, иже еси на небесех…» — сбиваюсь и никак до конца дочитать не могу. И никто меня ни о чём не спросил. А потом раз дверь открывается и заходит офицер. И спрашивает:
— Почему этот бокс заняли? Я ж говорил, он резервный, мне нужен…
Никто ничего ему не может ответить. Время-то прошло, и никто не знает, как я сюда попал, за что? Снова дверь захлопнулась. Время потянулось. Мне так было тяжко, что я зубами скрипел. Сижу на полу и раскачиваюсь — туда-сюда, туда-сюда. Снова дверь отворили:
— Выходи! — повели по коридору. — Руки за спину!
Заводят в какой-то кабинет. Там на подоконнике цветы. На столе графин с водой. Какой-то, мне показалось, старик сидит за большим столом с телефонами. Видать, в больших чинах. Я знаков различия-то тогда ещё не знал, и не помню, какие шпалы, ромбы.
— Ну, рассказывай… Владимир Филиппович… Крохин?
— Виноват, я не Крохин, а Кроханин.
— Ну, почему ж ты виноват? А ты виноват?
— Точно, — говорю. — Сильно виноват.
— Давай, всё рассказывай, как есть.
Стал я рассказывать:
— Снег повалил, товарищ начальник, а я бригаду отпустил спать, и сам уснул. Думаю, снег-то всю ночь будет идти, что ж его чистить. Надо с утра машину вызывать. А он возьми к полуночи и утихни.
Ну, он меня расспросил, как я на корты устроился. Через двоюродную сестру свою, она там была билетёршей.
— Тебе пора в армию, Кроханов, что ты на это скажешь?
— Я извиняюсь, конечно. Я не Кроханов, а Кроханин.
Он смеётся и говорит:
— Да, кто б ты ни был, а тебе пора в армию. Такие люди в армии нужны, потому что ты в рубашке родился. Сейчас иди домой. Тебе пришлют из военкомата повестку. Не обиделся ты на наши органы?
— Да что обижаться-то, — я ему отвечаю. — Немного помаялся. А, главное, живой остался, — а сам-то думаю, чтоб вы все тут попередохли!
— Правильно, Кроханин. Очень правильно ты это рассудил, — и он велел меня проводить.
Прибежал я домой не живой, не мёртвый. А уж Дуська-то моя родила. Она мне ребёнка-то протягивает на руках, а сама как-то так икает. И она стала заикаться. И даже сейчас, вот, как она придёт ко мне, ты прислушайся, иногда заикается. Она думала, я пропал. В первый ведь раз, с непривычки страшно. Я войну прошёл, дважды ранен был, и ничего. А от этого пустяка и стала заикаться баба. Фёдора родила тогда она, старшего моего. Он сейчас в Ленинграде живёт. Недели не прошло, как меня в армию призвали. А там уж и война была недалеко. Я в 41-то уж был старшиной. После ранения в 44-м меня комиссовали, нога-то осталась хромая, видишь. И вот с тех пор уж я отсюда никуда. Так всю жизнь и проработал здесь.