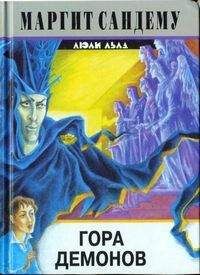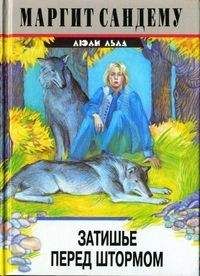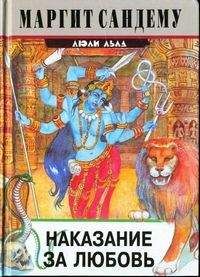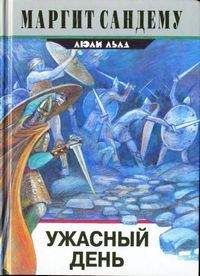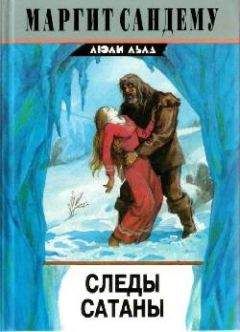Ирэн Фрэн - Клеопатра
А может, здесь сыграла свою роль беспощадная машина, которую запустил Цезарь, чтобы со временем добиться верховной власти. Прежде чем покинуть Рим, он позаботился о гарантиях, обеспечивающих должный порядок в Вечном городе на время его отсутствия; с этой целью он оставил вместо себя некоего прохвоста из числа самых гадких, Клодия по прозвищу Красавчик, — смутьяна, распутника, интригана и сверх того демагога с несравненным талантом: будучи, как и его покровитель, выходцем из старого аристократического рода, он каким-то чудом умудрился стать народным трибуном. О его частной жизни, как и о жизни Цезаря, ходили самые дурные слухи: он был любовником собственной сестры, ослепительной Клодии, которая, со своей стороны, ни в чем ему не уступала, ибо изводила своими капризами Катулла, величайшего поэта эпохи, и половину сенаторов. Поговаривали также, будто Клодий уступил свою жену — на несколько ночей — пылкому Антонию, лучшему приятелю по попойкам и развратным похождениям. И наконец, ходили слухи, что он не побоялся приударить за Помпеей, женой Цезаря, который в то время был великим понтификом и, как таковой, не мог не уважать культа предков. Достойная матрона ответила Клодию отказом; тогда, чтобы добиться своей цели, этот извращенец переоделся в женское платье и явился к ней в дом во время исполнения таинственных церемоний, которые римские дамы совершают исключительно в своем, женском кругу в честь не менее таинственного божества — Доброй богини. Клодия разоблачили, прежде чем он смог причинить какой-то вред, но он проболтался о своем приключении; а поскольку он сумел стать незаменимым помощником для Цезаря благодаря своим успехам на выборах, Цезарь, потребовав развода с Помпеей, не упомянул его имени, приведя в качестве единственного обоснования своего решения формулу, которая тут же стала пословицей: «… на мою жену не должна падать даже тень подозрения»[34].
Этому-то великолепному негодяю Цезарь, уезжая в Галлию, и поручил угождать плебеям, на которых опирался в своей карьере и при поддержке которых надеялся когда-нибудь стать единовластным правителем Рима и всего мира.
Плебеи опять голодали. Клодий, никогда не скупившийся на слова, и на этот раз пообещал им бесплатную раздачу зерна. Денег на закупку зерна у него, очевидно, не было. Но он знал, где их можно раздобыть: поскольку Египет уже обобрали, то, значит, только на Кипре, у брата Флейтиста. Он без труда получает от сената согласие на аннексию острова. Операция обещает быть выгодной: сумма, которую можно будет получить сразу же, просто конфисковав казну кипрского царя, оценивается в семь тысяч талантов — это на тысячу талантов больше, чем выкуп, затребованный с владыки Египта за право и дальше занимать его трон.
Брат Флейтиста, который раньше вообще не давал никаких поводов для разговоров, теперь разражается возмущенными криками. Рим опять начинает размахивать завещанием Сына потаскухи, утверждая, будто этот покойный царь завещал Кипр римскому народу. Правитель Кипра продолжает упорствовать. Клодий посылает туда своего врага, сурового Катона, с очень некрасивым поручением: нужно любой ценой добиться, чтобы кипрский царь уступил.
Однако брат Флейтиста не поддается на уговоры. Тогда Катон, ничтоже сумняшеся, обвиняет его в содействии пиратам, а потом приписывает ему все мыслимые грехи и участие в оргиях, еще более гнусных, нежели те, что устраивали в свое время Пузырь, Шкваржа и Сын потаскухи. Все напрасно. Царь Кипра терпеливо сносит оскорбления, но продолжает протестовать.
Тогда Катон хладнокровно говорит ему, что аннексия неизбежна, и лицемерно добавляет, что Рим, в своем великом милосердии, согласен оставить свергнутому правителю должность верховного жреца святилища Афродиты в Пафосе. Брат Флейтиста молча выслушивает его, удаляется к себе и принимает яд.
Известие о его трагической смерти приходит в Александрию в тот самый момент, когда нужно начать выплачивать долг Рабирию. Флейтист объявляет о введении новых налогов. Город отвечает ему мгновенной вспышкой возмущения: мало того, что Флейтист продал их всех римлянам, ему даже не хватило духу поддержать собственного брата, помочь ему, спасти его честь!
Уже не просто шум городской жизни доносится до дворца, стоящего у моря, а грохот оружия. Повсюду мелькают мечи и кинжалы, придворные растеряны, в трюмы одной галеры спешно грузят золото, и она на всех парусах отходит от берега. Бежать — иного выхода нет.
* * *В море ли, обдумывая, куда направить корабль, Флейтист, наконец, осознал, в какую волчью яму он падает? Вид ли пустынного горизонта подсказал ему мысль, что Римская республика — всего лишь пустая скорлупа, а Цезарь, Помпей и Красе будут бороться между собой за раздел мира до того момента, пока один из них не завладеет всей полнотой власти? И что, по представлению римлян, Вселенная уже стала их частной собственностью?
Катастрофа, когда она является абсолютной, подавляет аналитические способности своей жертвы; и все же в такие трагические часы близкие пострадавшего — даже подростки, даже дети — иногда оказываются способными на поразительные интуитивные прозрения. Во всяком случае, именно в такие моменты — когда люди вокруг отводят взгляды, стараются скрыть свои слезы, — могут сформироваться фундаментальные представления, достаточно сильные, чтобы служить ориентиром для всей последующей жизни.
Мы ничего не знаем о тех чувствах и мыслях, которые посещали Клеопатру в первые часы недостойного бегства ее отца. Тогда вряд ли кто-то обращал внимание на душевное состояние тринадцатилетней царевны, пусть даже и подающей надежды; ни в одном тексте не осталось свидетельств и о том, что впоследствии она хоть что-то говорила на эту тему. И тем не менее можно не сомневаться, что в тот день жгучего стыда она поняла одну элементарную истину: чтобы заставить римлянина отступить, требуется нечто большее, чем дохлая кошка.
ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЯ
(58–55 гг. до н. э.)
Мы не знаем, что происходило в это время с Клеопатрой: оставалась ли она в самом сердце того хаоса, который воцарился в Египте, или последовала за отцом и была свидетельницей всего, что стало результатом его бегства, — невероятной череды промахов, обманов, унижений и махинаций. От ее тогдашней жизни не сохранилось никаких следов. Юная звезда как бы растворилась в пустоте и была незримой до того момента, когда ей исполнилось пятнадцать лет.
А между тем события вокруг нее развивались все более стремительно и, очевидно, не могли не оказывать решающего влияния на ее поведение. Она, конечно, не переставала размышлять о них, извлекать из них уроки. Что именно творилось у нее в голове, с точностью установить невозможно; нам остается лишь строить догадки.