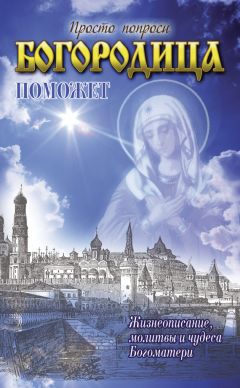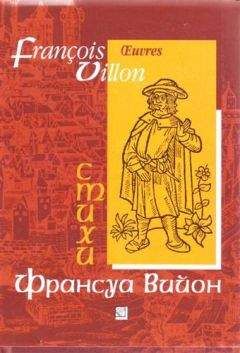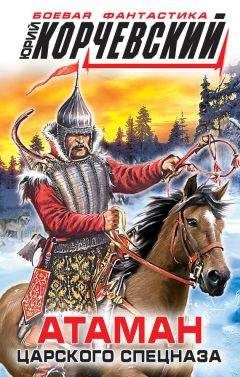Е. Нилов - Боткин
Не раз Сергей Петрович, видя недостаток врачей, скидывал сюртук, засучивал рукава и становился к операционному столу. Бывали случаи, что и стола-то не было, и он грузно опускался на колени (он был тогда уж довольно тучен), перевязывал раненого, помогая не только как врач, но и просто как санитар.
Все письма Боткина того времени наполнены болью за русских солдат и восхищением их храбростью, стойкостью, терпением.
«У меня не раз навертывались слезы, слушая стоны и смотри на этих людей, изнемогающих от ран, от солнца, от тряски, от усталости… Не могу тебе передать, до какой степени симпатичны мне наши раненые; сколько твердости, покорности, терпения видно в этих героях. И как тепло и дружно относятся они друг к другу, как утешаются они в своем несчастье тем, что вытесняли или прогнали его (турка), — писал Боткин жене. — Надо знать наших солдат, этих добродушных людей, идущих под пулевым градом на приступ с такой же покорностью, как на учениях, чтобы еще больше сжималось сердце при мысли, что не одна тысяча этих хороших людей легла безропотно, с полной верой в святое дело, за которое они так охотно, с такой готовностью отдают свою жизнь…»
И чем больше проникается он любовью и жалостью к солдатам, тем возмущеннее пишет о бездарности командования: «Надо ближе посмотреть на русского солдата, чтобы со злобой относиться к тем, которые не умеют руководить ими. Ты видишь в нем силу, и смысл, и покорность. Всякая неудача позором ложится на тех, которые не сумели пользоваться этой силой. Вглядываясь в наших военных, особенно старших, тан редко встречаешь человека с специальными знаниями, любящего свое постоянное дело. Большая часть из них знакома только с внешней стороной своего дела — проскакать бойко верхом, скомандовать „направо, налево“. Да и много ли таких, которые следят за наукой, изучают свое дело? Военный человек в известном чине — это у них есть самое приятное, свободное положение человека, дающее ему право заниматься всем, чем хочет. Наиболее порядочные из них отлично занимаются своим собственным делом, устраивают имения, читают газеты, литературные произведения, посещают театры и пр… удовлетворяясь по военной специальности только тем, что приобрели в школе. Много ли у нас таких, которые с любовью занимаются своей специальностью? Они все наперечет».
Из писем к жене за это время мы видим, что бодрое настроение Боткина все более и более сменяется критическим и унылым. «До сих пор нет человека, который бы сумел все дело взять в руки и повести с большим талантом, чем это ведется до сих пор: несостоятельность административной стороны армии, кажется, превосходит все; пути сообщения, почта, интендантская часть — все это в младенческом состоянии… Последствием этого бывает то, что турка ест отличную галету с сыром, а у нашего сухари не всегда бывают. Турка в отличной палатке, в лагере с гигиеническими приспособлениями, с отхожими местами, а наш солдатик заражает себя своими собственными отбросами». «Крымская война нас недостаточно выучила, — пишет он в одном из писем. — Воровство идет если не такое же, то сильнее прежнего, по крайней мере более гарантирующее воров, чем прежде…» «Мне пришлось поработать, чтобы ткнуть носом того, другого, третьего и поговорить не без генеральского тона, что в некоторых случаях необходимо».
«Очевидно, этим господам наша война благодать, — с горечью писал он, — Кто во что горазд; один кормит людей, другой лошадей, третий перевозит их, четвертый обувает. Все операции, наполняющие карманы, в их руках».
Занимаемое Боткиным положение давало возможность ясно видеть всю закулисную сторону фронтовой жизни. Первое время он пытается бороться с злоупотреблениями, он докладывает об этом в главной квартире, с интендантами употребляет «генеральский тон». Если второе хоть частично помогает, первое оставляет все по-старому. Угнетенный, почти больной, Боткин за шуткой старается скрыть всю силу своей горечи: «Пишу тебе об этом, чтобы ты Солее ясно могла обрисовать мое теперешнее нравственное настроение, которое все более и более делает меня „брюнетом“. Здесь я с утра обыкновенно „брюнет“, только к вечеру несколько разгуливаюсь и приобретаю прежние свойства „блондина“.
Он с горестной насмешкой пишет об окружении царя, о высших чинах армии.
„…Вчера меня разбирала тоска, глядя на громадную свиту, сопровождавшую главнокомандующего; кого тут не было, кроив обычных начальствующих: куча ординарцев, адъютантов, три священника — русский, лютеранский, католический. Объехав с осторожностью позиции, побывав около батареи, сели за завтрак. Bсe это ело, ело, ело, а там все палили, палили и палили“.
В фронтовых госпиталях Сергей Петрович встречался с Пироговым, Он очень радовался и ждал встречи с учителем юношеских лет. После нее он писал жене: „…старик держал себя умно, скромно и не без такта, мне показалось, что он за это время сильно постарел, впрочем, может быть, устал…“
Но скоро в его письмах звучит уже горькое разочарование:
„Пирогов, очевидно, решился все хвалить, говоря, что война — такое бедствие, которое ничем не поправляется, а то, что сделано, то прекрасно. По-видимому, Пирогов действительно так благодушно настроен… Боюсь только, чтобы Пирогов не осветил таким образом целую кучу вздора и вреда…“
Следующее письмо еще резче:
„…Пирогов мне показался как-то сконфуженным, мне пашется, он сам чувствует декоративность своего положения, не знаю, насколько он решится продолжать петь дифирамбы медицинской, администрации, жаль будет, если он бросит тень на свое порядочное имя, может быть, незадолго до своей смерти. Можно благоговеть перед врачами, перед их трудами, но не позволительно мириться с административной стороной всего медицинского дела; нельзя было прятаться за ширмы такого бедствия, как война, для того, чтобы не стремиться улучшить положение раненых и больных. Пирогов, по-видимому, действует без достаточной энергии я прямоты, но кажется, он начинает уступать в вопросе об эвакуации, уменьшив свою страстность защиты этого безобразия. Мне интересны подробности, как попал Пирогов в это путешествие, что могли ожидать от человека в 74 года7 Кого должно было прикрыть имя, которое все привыкли уважать?“
Второй раз пришлось Сергею Петровичу перенести разочарование в людях, которых он ценил более всего. Первый был Вирхов, перешедший к старости в лагерь реакции. Но теперь горечь разочарования в человеке была захлестана горечью и возмущением всем виденным вокруг. Он пишет жене: „…Люди остаются и без еды и без перевязки по суткам и более; все это кричит, стонет, умоляет о помощи. Какие силы нужны, чтобы все это вынести, чтобы не надорваться! Относиться же ко всему этому с спокойствием и равнодушием привычного человека — не в состоянии“.