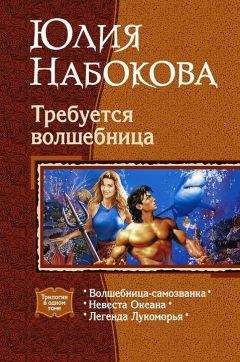Маргарита Павлова - Писатель-Инспектор: Федор Сологуб и Ф. К. Тетерников
Рассматривая цепочку основных сочинений Сологуба «долитературного» периода, нельзя не заметить, что уже в конце 1880-х годов в них сложился «бродячий» автобиографический сюжет — отчасти апокрифический, отчасти правдивый, который затем, претерпевая несущественные изменения, продолжал «пульсировать» в его художественных замыслах. Непременные атрибуты этого автобиографического субстрата: сиротство героя — ранняя смерть или отсутствие одного из родителей (чаще всего отца); суровое воспитание, жестокий деспотизм матери (тетки / бабушки / помещицы) или учителей; чувство несоответствия данного — несвободного и несправедливого — мира долженствующему быть, который обретает бытие в воображении героя.
В целом, несмотря на достаточно пеструю картину и общую «растрепанность» художественных замыслов и экспериментов молодого Сологуба, его творчество первого десятилетия выглядит весьма монолитно. Эту монолитность ему придает единый эмоциональный «код» и сосредоточенность писателя на аномальных или патологических явлениях жизни и человеческой психики, о которых по негласной «этической конвенции» было не принято писать в русской литературе, а по причине цензурных запретов и невозможно. Едва ли Сологуб не догадывался о таком положении вещей, плодя в своем воображении и перенося на бумагу образы героев с садомазохистскими, гомоэротическими, инцестуальными и тому подобными склонностями. Несомненно, он имел предрасположенность к осмыслению подобных явлений, составлявших один из главных предметов рефлексии декадентской культуры, сосредоточенной на познании Эроса невозможного.
В свете специфической душевной жизни писателя, повлиявшей на все его творчество, почти неоспоримыми выглядят утверждения критиков о «прирожденности» у него декадентского миросозерцания: «Декадентство Сологуба с ранних его веских шагов по литературному пути было <…> живым внутренним процессом»[233]; «Декадентом он упал с неба, и кажется иногда, что он был бы декадентом, если бы не было не только декадентства, но и литературы, если бы мир не знал ни Эдгара По, ни Рихарда Вагнера, ни Верлэна, ни Маллармэ, если бы не было на свете никого, кроме Федора Сологуба»[234]; «Непритворен был он в своем декадентстве, не надевал маски, был он подлинный, с действительно больными увлечениями и извращениями, певец не жизни, а смерти, ее платонический любовник, богомолец Зла, поклонник небожьего мира…»[235] и т. п.
Между тем такой слишком «эстетический» подход к личности художника представляется несколько антиисторичным. Становление Сологуба пришлось на 1880-е годы — время расцвета декадентских настроений в европейской культуре, которые еще только предчувствовались в русской жизни, охваченной общественной абулией вследствие наступившей политической реакции (в середине 1880-х годов возник киевский кружок «Новые романтики»[236]).
Европейская литература переживала период осмысления эпохи декаданса. В 1888 году в русском переводе появились «Очерки современной психологии» известного романиста Поля Бурже, находившегося в то время в зените популярности (в книгу вошли очерки о Шарле Бодлере, Эрнесте Ренане, Гюставе Флобере, Ипполите Тэне, Стендале, Александре Дюма-сыне, Леконте де Лиле, Эдмоне и Жюле Гонкурах, И. С. Тургеневе).
Характеризуя эпоху, П. Бурже констатировал:
Какое-то всеобщее недовольство несостоятельностью нашего века замечается и у славян, и у германцев, и у народов латинской расы, выражаясь у первых в нигилизме, у вторых в пессимизме, а у третьих — в единичных, но странных неврозах.
Гнусные петербургские убийства и покушения, книги Шопенгауэра, безобразные пожары, коммуны и упорная мизантропия романистов-натуралистов, — я нарочно подбираю самые противоположные примеры, — обнаруживают все тот же дух отрицания жизни, который с каждым днем все больше и больше омрачает западную цивилизацию.
Мы, конечно, еще очень далеки от самоубийства нашей планеты — от этого венца желаний теоретиков несчастья. <…> Можно было бы написать очень новую и очень интересную главу по сравнительной психологии, если бы взяться обозначить постепенное движение европейских народов к этому трагическому отрицанию всех усилий всех веков[237].
В 1894 году в русском переводе увидел свет труд Макса Нордау «Вырождение», в котором автор фактически признал полную победу декаданса в сознании и психологии современного человека.
Переживаемая Европой и наступавшая на Россию эпоха fin de siècle не могла не влиять на формирование личности писателя, натура которого была как будто бы специально создана для восприятия и отображения этой эпохи. Живо интересовавшийся литературой и чувствовавший в себе призвание к писательскому труду, молодой Сологуб, несомненно, впитывал в себя многочисленные импульсы общественной и культурной жизни.
Его непосредственное знакомство с европейским искусством последней трети XIX века, за которым закрепилось понятие «декадентство», состоялось в начале 1890-х годов и имело в его писательской судьбе провиденциальное значение: под влиянием «новой» литературы он превратился в одного из видных полноправных рафинированных декадентов эпохи. Русский декаданс нашел в нем своего подлинного жреца и адепта.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«Архи-декадентский» роман
1
Ф. Сологуб — живой человек, петербуржец.
Л. ГуревичВ сентябре 1892 года Сологуб перебрался из Вытегры в Петербург, где поселился на Серпуховской улице (отходит от Загородного проспекта в сторону Обводного канала). Он был оставлен за штатом (с содержанием), а через год получил назначение в 3-е Рождественское городское мужское начальное училище и переехал на другую квартиру, ближе к месту службы (по адресу: Пески, 4-я Рождественская улица, д. 24, кв. 6). Впрочем, на петербургских квартирах, вероятно мало отличавшихся одна от другой, в эти годы брат и сестра Тетерниковы не задерживались; через некоторое время они переехали в Щербаков переулок у Владимирской площади. 11 января 1897 года В. Брюсов записал в дневнике:
Я был у Сологуба. Щербаков пер. оказался трущобой Петербурга, расположенной близ центра. Дом № 7 оказался грязным домишкой с вонючим двором. Взбираться в кв. № 18 пришлось мне по узкой, залитой лестнице, наконец, на самом верху прочел я на двери: Акушерка Тетерникова. Я уже колебался, звонить ли. Наконец решился. Квартира из трех комнат; кухарка, отворившая мне дверь; неопределенных лет девица, — «моя сестра», по рекомендации Ф. С., и сам он, еще более полысевший, постаревший. Мы поговорили с полчаса, впрочем, достаточно официально[238].