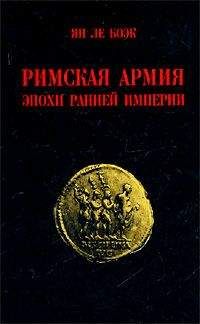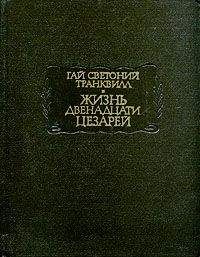Николай Римский-Корсаков - Летопись моей музыкальной жизни
Припомню также следующий эпизод. В одно из воскресений пришел к нам Г.А.Ларош. Первоначально беседа наша шла благополучно, но вскоре случайно появившийся В.В.Стасов не замедлил сцепиться с ним не на живот, а на смерть. В.В. не выносил Лароша за весьма консервативное направление в музыкальном искусстве и катковский образ мыслей. После первой большой и прекрасной статьи о «Руслане», которой Стасов весьма сочувствовал, Ларош в последующих своих статьях (он был сотрудником «Московских ведомостей») стал более и более высказываться как убежденный защитник технического совершенства в искусстве, как апологист старых нидерландцев, Палестрины, Баха и Моцарта, как противник Бетховена, как проповедник эклектического вкуса под условием совершенства техники и как враг «могучей кучки». Среди такого направления критических статей Лароша как-то странно и непонятно выделялась его склонность к музыке Берлиоза, музыке необычайной, растрепанной и, во всяком случае, далеко не совершенной технически. Спор Стасова с Ларошем был продолжительный и неприятный. Ларош старался быть сдержанным и логичным, Стасов же закусывал, по обыкновению, удила и доходил до грубостей и обвинений в нечестности и т. д. Насилу кончили.
В декабре 1871 года Надежда Николаевна Пургольд стала моей невестой. Свадьба назначена была летом, в Парголове. Конечно, мои посещения дома Пургольдов, довольно частые до этих пор, еще более участились; с Надей я проводил почти что каждый вечер. Тем не менее, работа моя шла. Увертюра к «Псковитянке» сочинялась и в январе 1872 года была окончена в партитуре.
Я представил либретто свое в драматическую цензуру. Цензор Фридберг настаивал на том, чтобы в сцене веча были сделаны некоторые изменения и смягчения в тексте. Пришлось покориться. Слова: вече, вольница, степенный посадник и т. п. были заменены словами: сходка, дружина, псковский наместник. В песне Тучи выключены были стихи:
Зазубрилися мечи, Притупились топоры.
Али не на чем точить
Ни мечей, ни топоров?
В цензуре объяснили мне, что все изменения должны были клониться к тому, чтобы изъять из либретто всякий намек на республиканскую форму правления во Пскове и переделать второй акт из веча в простой бунт. Для уяснения себе сути Фридберг зазвал однажды вечером меня и Мусоргского к себе с просьбой сыграть и спеть ему второе действие, причем он им немало восхищался. Но вот где встретилось окончательное препятствие: в цензуре имелся документ, высочайшее повеление императора Николая (кажется 40-х гг.), в котором говорилось, что царствовавших особ до дома Романовых дозволяется выводить на сцене только в драмах и трагедиях, но отнюдь не в операх. На вопрос: почему? — мне отвечали: а вдруг царь запоет песенку, ну оно и нехорошо. Во всяком случае, высочайшее повеление имелось, и преступить его было нельзя; надо было хлопотать путем околесным. В 70-х годах морским министром был Н.К.Краббе, человек придворный, самодур, плохой моряк, дошедший до должности министра после службы адъютантской и штабной, любитель музыки и театра или еще более того —красивых артисток, но человек, во всяком случае, добрый. Покойный брат мой, Воин Андреевич, превосходный моряк, беспристрастный и прямой человек, во всех заседаниях, советах и комиссиях всегда был на ножах с морским министром. Мнения их по всем вопросам, возбуждаемым в министерстве, были противоположные, и Воин Андреевич, горячо отстаивая свои убеждения, зачастую опровергал предложения Краббе, старавшегося угодить лишь высочайшим особам, и добивался противоположного. Бывало и наоборот, дело делалось не так, как казалось желательным В.А. Во всяком случае, чисто служебная война между Краббе и В.А. не прекращалась. Со смертью брата чувство уважения к памяти своего служебного врага ярко выразилось в действиях Н.К.Краббе. Он, по собственному почину, поспешил устроить все возможное для обеспечения семьи покойного, а равно и матери его. Чувство Н.К. коснулось и меня, и я внезапно стал его любимцем; он сам зазвал меня к себе, был ласков и любезен, предложил мне обращаться нему во всяких затруднительных случаях, допустив посещать его во всякое время. Цензурные затруднения с «Псковитянкой» заставили меня обратиться нему, и он с величайшей готовностью взялся хлопотать через великого князя Константина об отмене устарелого и нелепого высочайшего повеления о запрещении выводить в операх царствующих особ до дома Романовых. Великий князь Константин) тоже охотно взялся за это дело, и в скором времени цензура объявила мне, что царь Иван допущен на оперную сцену, и либретто получило цензурное разрешение лишь под условием изменений, касающихся «веча». Одновременно опера моя была принята и дирекцией императорских театров, ближайшее управление которыми, после смены Гедеонова и Федорова, было в руках Лукашевича, расположенного к деятелям нашего кружка. Высшее же, но негласное управление театрами в ту пору лежало на обязанностях контролера министерства двора —барона Кистера. Настоящего директора театров не было. Направник, очевидно не сочувствовавший моей опере, вынужден был покориться влиянию Лукашевича, и опера была назначена на следующий сезон. Во всяком случае, в деле принятия оперы моей на Мариинскую сцену, наверно, немало благотворного влияния оказало вмешательство великого князя в цензурные дела. Полагаю, что ход мысли театральной дирекции был таков: сам великий князь интересуется оперой Римского-Корсакова, следовательно, ее не принять нельзя.
Знакомство Направника с «Псковитянкой» произошло однажды вечером у Лукашевича, куда были приглашены я и Мусоргский. Модест, превосходно певший за все голоса, помог мне показать мою оперу присутствовавшим. Направник, конечно, мнения своего не высказал и похвалил лишь наше ясное исполнение. Вообще же исполнение «Псковитянки» под рояль у Краббе и неоднократное в доме Пургольдов происходило следующим образом: Мусоргский пел Грозного, Токмакова и другие мужские партии, смотря по надобности, некто Васильев, молодой доктор (тенор), исполнял Матуту и Тучу, Ольгу и мамку пела А.Н.Пургольд, аккомпанировала моя невеста, а я, смотря по надобности, подпевал недостающие голоса и играл в 4 руки с Надей все неудобоисполнимое для двух рук. Переложение «Псковитянки» для фортепиано с голосами было сделано ею же. Исполнение в таком составе было прекрасное, ясное, горячее и стильное и происходило всякий раз при значительном стечении заинтересованных слушателей.
В феврале 1872 года на Мариинском театре был поставлен «Каменный гость» в моей оркестровке[160]. Я присутствовал на всех репетициях. Направник вел себя сухо и безукоризненно. Я был доволен оркестровкой и в восторге от оперы. Исполнялась опера хорошо. Коммиссаржевский —Дон-Жуан, Платонова —Донна-Анна, Петров —Лепорелло были хороши; прочие не портили дела. Публика недоумевала, но успех все-таки был. Не помню, сколько было представлений «Каменного гостя», во всяком случае, не много, и вскоре опера замерла —и надолго…