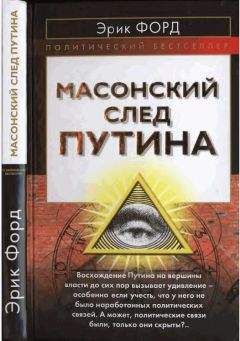Юрий Сушко - Клан Чеховых: кумиры Кремля и Рейха
На другом занятии он рассаживал группу за стол. Предлагал одному из слушателей произнести какое-нибудь любое слово. Сидевший рядом, услышав его, должен был постараться поймать первый же образ, родившийся в его воображении, и тотчас передать-перебросить этот случайный образ, как теннисный шарик, своему соседу, и так далее, по кругу.
Возникающие таким способом образы были изысканно тонки, неуловимы и почти непередаваемы словом. Поэтому ученики не стесняли себя, демонстрируя их жестом, выражением лица, гримасой или каким-нибудь нечленораздельным звуком – все равно, лишь бы не умирал этот зыбкий образ и был воспринят сидящим рядом за общим столом.
В лаборатории игры рождались творческие личности. Чехов приучал студентов нести ответственность за весь спектакль. Они сами писали сценарии и готовили миниатюрные этюды, скетчи, сочиняли музыку и рисовали эскизы будущих декораций.
Но его радости не было суждено длиться вечно. В 1938 году Великобритания уже перестала казаться Чехову богоспасаемыми островами. Из Европы сюда доносились тревожные вести: аннексия Австрии, мюнхенский сговор, ультиматум Чехословакии. Беда приближалась. Посовещавшись с Элмхерстами, Михаил Александрович решил отбыть в Америку.
Расставаясь с Британией, как с несбывшимся миражом Томаса Мора, Чехов вспоминал слова другого английского гения Оскара Уайльда: «…Не стоит говорить и смотреть на карту, раз на ней не обозначена Утопия, ибо это та страна, на берега которой всегда высаживается человечество. А высадившись, оно начинает осматриваться по сторонам и, увидя лучшую страну, снова поднимает паруса…»
Параллель-1: Ялта – Москва (1900–1904), Берлин – Брюссель (1936–1938)
– Это какое дерево?
– Вяз.
– Отчего оно такое темное?
– Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.
– Нельзя.
– А если я поеду к вам?..
– Нельзя…
…
– Я люблю вас.
– Тс-с…
А.П. Чехов. ЧайкаОльга всегда была готова слушать, сочувствовать, советовать. Но делиться с окружающими своим личным, самым сокровенным, потаенным, о том, что изводило ее днем и ночью, она себе никогда не позволяла.
Несмотря на публичность жизни, бесконечную череду встреч, разговоров, общений, знакомств, не оставлявших ей ни минуты покоя, она была одинокой несчастной женщиной и всегда говорила, что «испытывала безотчетный страх перед замужеством, а семейная жизнь мне никогда не казалась такой же важной, как очередная роль, полученная мной…».
Брак в ее представлении был бременем, обузой, тяжкими оковами, путами, которые ограничивали личность во всем, отнимали свободу выбора. «И дело не только в печальном опыте моей юношеской брачной авантюры в России, – оправдывала Ольга свое вынужденное одиночество. – Наверное, я слишком эгоцентрична и влюблена в свою профессию. Я не желаю ничего знать о мелочных повседневных заботах, с которыми приходиться бороться каждому. По счастью, мать и сестра… избавляют меня от быта. Мой вклад в домашнее хозяйство ограничивается постоянно повторяющимся вопросом: «Деньги тебе нужны?»…»
Стучал, но так и не достучался до сердца Ольги провокатор ее «юношеской брачной авантюры» Михаил Чехов, который обожествлял любовь и свято верил, что именно она «сделает нас более артистичными, более свободными творчески, более счастливыми»… Правда, он тоже, как и Ольга, больше жизни любил свою Богом данную профессию.
* * *«Доброе утро, дорогой мой! Как провел ночь?..
Вчера, когда расстались с тобой – долго смотрела в темноту, и много, много было у меня в душе. Конечно, всплакнула. Я ведь так много пережила за это короткое время в вашем доме… Думала все о тебе – вот он едет на конке, вот он у Киста, почистился и пошел скитаться по городу…
Целую твою многодумную голову, почувствуй мой горячий поцелуй. Addio, мой академик. Люби меня и пиши.
Твоя актриса».
6 августа 1900 г.
Между Севастополем и Харьковом.
«Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!.. Мне все кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь, ты теперь на репетициях в Мерзляковском переулке, далеко от Ялты и от меня.
Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая.
Твой Antonio».
9 августа 1900 г., Ялта.
«Мне уже кажется, что я целый век не писала тебе, дорогой мой Антон… Как мне хочется посидеть у тебя в кабинете, в нише, чтобы было тихо-тихо – отдохнуть около тебя, а потом поогорошить тебя, глупостей поговорить, подурачиться. Помнишь, ты меня на лестницу провожал, а лестница так предательски скрипела? Я это ужасно любила. Боже, пишу, как институтка!
А вот сейчас долго не писала, скрестила руки и, глядя на твою фотографию, думала, думала и о тебе, и о себе, и о будущем. А ты думаешь?
Мы так мало с тобой говорили, и так все неясно, ты этого не находишь? Ах, ты мой человек будущего!
А ты меня не забыл, какая я? А ты меня любишь? А ты мне веришь? А тебе скучно без меня? А ты за обедом ел? С матерью не ссоришься? А с Машей ласков? Сошел со своего олимпийского величия? А ну-ка, попробуй ответь на все. Пиши больше о себе, все пиши. А теперь дай мне прижать твою голову и пожелать спокойной ночи.
Твоя Ольга».
16 августа 1900 г., Москва.
«Милюся моя, Оля, славная моя актрисочка… По письму твоему судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора – с серьезными лицами, с серьезными последствиями; а я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, т. е. что я люблю тебя – и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству…
Твой Antoine».
22 сентября 1900 г., Ялта.
«Антон, ты знаешь, я боюсь мечтать, т. е. высказывать мечты, но мне мерещится, что из нашего чувства вырастет что-то хорошее, крепкое, и когда я в это верю, то у меня удивительно делается широко и тепло на душе, и хочется жить и работать, и не трогают тогда мелочи жизненные, и не спрашиваешь себя, зачем живешь. А ты во мне поддерживай эту веру, эту надежду, и нам обоим будет хорошо и не так трудно жить эти месяцы врозь, правда, дорогой мой?..
Буду жить и работать, киснуть не буду, а буду мечтать о весне, о нашем свидании. И ты тоже, милый мой, родной мой? Целую твою милую голову, и хорошие глаза твои, и мягкие волосы, и губы, и умный лоб, и прижимаю тебя к груди, и люби, люби меня и пиши чаще
Твоей собаке».
11 декабря 1900 г., Москва.
«Поздравлял ли я тебя с Новым годом в письме? Неужели нет? Целую тебе обе руки, все 10 пальцев, лоб и желаю и счастья, и покоя, и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет. Я тебя обнимаю, как бы ни было…