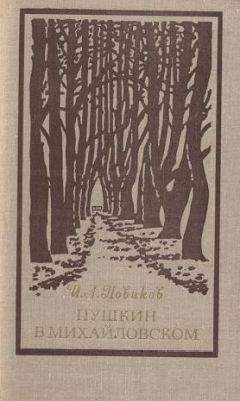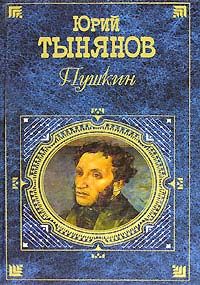Семен Гудзенко - Завещание мужества
Едва я увидел те стихи, как понял, что слышал уже о поэте. (Тогда с первого раза я даже не запомнил его фамилии.) Я в то время учился на курсах, в танковом училище. И приехавший туда Антокольский сказал нам впервые о том, что появился в Москве новый поэт… Фамилия не запомнилась, а может быть, даже и не называлась.
Говорилось так, что он солдат, какой-то еще совсем молодой парень. До войны учился то ли в школе, то ли в вузе, писал плохие стихи. Такие, как все. Стихи, пришедшие от литературы, от книг. Но началась война, и попал этот парень на фронт, под Сталинград попал, был контужен, ранен. Лежал в госпитале. Он-то и написал первые стихи о войне… Настоящие, солдатские.
Мне это запомнилось, хотя для первого раза, может быть, и прозвучало чересчур таинственно.
Очевидно, уже тогда я и товарищи мои по курсам и по казарме восприняли все так, что появился поэт наш. Выращенный войной. Мы знали — он придет обязательно, хотя до сего дня видели только творящих подвиг. За каждую свою побывку на переднем крае я видел их, людей войны. Но не было певца. Не было творящего песню. Того, кто бы рассказал обо всем.
Потому-то и так хорош был этот рассказ, что в нем было что-то от легенды.
И вдруг, в холодный вечер зимы, в необжитой, в старой, покинутой другими землянке попался мне томик лучшего в то время военного журнала «Знамя». Я увидел заверстанные в середину стихи поэта.
«Когда на смерть идут — поют. А перед этим — можно плакать…»
«Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной…»
Я сразу понял, что это он.
Как это точно все было передано! Все то, что знал и я. И как раз так, как я сам видел, — покрытые минною копотью склоны.
Сразу подумалось, что я тоже так мог бы показать. Ведь и я, я тоже ходил по этим холмам, овитым фугасной серо-желтой пылью. Везде, пока не доберешься до траншеи, — угольно-серые, черные холмы. Они всюду, куда ни посмотришь.
И поверьте мне: солдату действительно кажется, что все-все снаряды, и крупные и мелкие, летят в него, все, что есть стреляющего, несущего смерть, направлено на него. И все странно его минует. И все — странно! — пока не попадет, его минует.
Вот почему это так точно:
…Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Я должен сказать тут, что это стихотворение было знаменательным для всей нашей поэзии о войне. Мы как-то внезапно увидели, как правдиво можно писать о войне. И должно быть, влияние его сказалось на многих стихах очень многих поэтов.
Так я с ним познакомился… Ходил по этим изрытым, фугасом запорошенным сопкам и холмам, падал, когда рвалась мина, и, оглядываясь на звук пропевшей пули, повторял: «Мне кажется, что я магнит!»
И вроде бы было веселее. Слово уже было найдено! Всему тому, чему трудно было найти выражение.
Может быть, для поэтов — для его сверстников, для тех, кто до войны посещал литературные аудитории в Москве, — может быть, для них стихи эти не имели такого значения.
Но я говорю только о себе. Я ушел на войну из десятилетки, из небольшого городка в Предуралье, и в солдатский мой ровик поэзия явилась на фронте.
Но, думаю, не для меня одного так необходимо было появление поэта Гудзенко.
Когда мы съехались, слетелись в Москву, нас было уже двести человек! Мы родились как-то все сразу, мы ввалились целой гурьбой. Сдержать нас было трудно.
Для меня он так и остался первым в поколении.
Когда мы вернулись с войны, молодых поэтов было уже много… Были поэты, голоса которых знали уже. Одни заявили о себе после и одновременно, многие даже раньше. Я рассказываю здесь, как это было для меня.
Но тогда, на войне, я прочел только эти несколько стихотворений из случайно попавшей на фронт книжки журнала. «Однополчан» его там, на фронте, в условиях переднего края, прочесть я, конечно, не мог.
Эту его первую книжку, как и многое другое. Как и первые стихи, стихи уже появившихся в журналах молодых, статьи о них, о молодых, вернувшихся с войны, я прочитать не мог. Все это я прочел, когда сам вернулся с войны, с фронта. Только зимой, в сорок пятом году. Может быть, даже в сорок шестом. С полустанка, на котором я тогда жил, я поехал в город.
Я получил эту его первую книжку в читальном зале библиотеки и долго искал свободный, незанятый стул. Книжка эта оказалась до удивления маленькой, тоненькой. В ней было не более десяти стихотворений.
Конечно, я их все помню.
«Тяжелый шаг. Как будто пыль дороги колотят стопудовым колуном…»
И это:
«Пепел костров и пепел волос — это солдатских кочевий следы».
За месяц или полтора до совещания, которому суждено было сыграть такую непредвиденно большую роль в судьбе молодого поколения поэтов, я проезжал через Москву. И со смелостью, свойственной молодости, я со смелостью и дерзостью, которой тогда, после возвращения и победы, у нас было больше, позвонил Антокольскому.
Все тот же Антокольский — он, а не кто другой, снабдил меня запиской к дежурному в клубе, просил пропустить на собрание секции поэтов. Собрания никакого не было, но меня пропустили.
Так вышло, что в первую же минуту я познакомился с Лукониным, которого его стихотворение «Пришедшим с войны» сразу сделало не только известным, но и сразу показало, как бывает всегда, его человеческий характер.
Я ведь был в гимнастерке, и ему нетрудно было узнать во мне одного из вернувшихся. Первое, что я сделал, — я спросил его о Гудзенко, и, взяв за руку, он подвел меня к высокому, рослому парню, который стоял на ступеньках лестницы. Помню, в сапогах был.
— Ну, пойдем, старшой, — я был старшим лейтенантом. — Почитаешь, — сказал тот громогласно.
Мы уселись за один из столиков. Сколько мы раз потом за ними сидели. С ним и все вместе. Все, сколько нас было! Никогда уже это не повторится. Едва мы сели, я стал читать. (Откуда смелость бралась!) Они похвалили, переглянулись. И Луконин тоже похвалил. И сразу я себя почувствовал младшим. У меня это надолго осталось. С Гудзенко мне было проще: мы ведь с ним были давно знакомы!
Но именно Луконин стал говорить с Семеном, что меня надо пригласить на совещание. Об этом совещании тогда много говорили, но почему-то долго его откладывали.
Я действительно приехал, был вызван за день до открытия.
В те бурные дни мы виделись мало.
Я помню заключительное заседание, когда ему пришлось отвечать критикам. Перед этим в печати ругали даже «Быть под началом у старшин». Но особенно ополчились все на всех раздражавшее: «В каких я замках ночевал, мечтать вам и мечтать!»