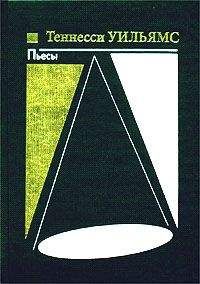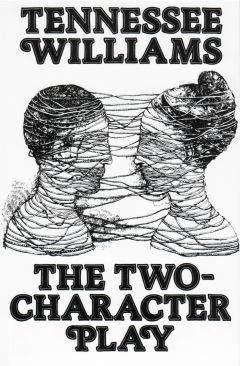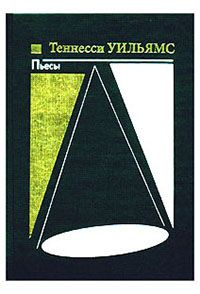Теннесси Уильямс - Мемуары
Я был занят репетициями самой сложной из написанных мною пьес, больше ей не звонил и ничего не слышал о них.
Два дня назад я открыл римскую газету «Daily American» и увидел фотографию измученного лица Билла, а под ней — сообщение, что он покончил жизнь самоубийством.
Я познакомился с Биллом Инджем в декабре 1944 года, когда ненадолго вернулся домой в Сент-Луис. В это время он писал для (ныне покойной) «Star-Times» театральную критику интервью, выступал, по-моему, и как музыкальный критик.
Это было во время чикагской постановки «Зверинца», и Билл приехал в наш пригород, чтобы взять у меня интервью. На него произвела «ошеломляющее» впечатление моя стремительная карьера драматурга. Дома мне было очень одиноко: все друзья уже разъехались кто куда. Я сказал об этом Биллу, и он очень сердечно пригласил меня к себе домой — его квартира была у реки. Он собрал своих друзей. Через несколько дней мы вместе были на концерте сент-луисского симфонического оркестра. Только благодаря Биллу я могу с удовольствием вспоминать мое пребывание дома.
Когда я вернулся в Чикаго к своему «Зверинцу», Билл ненадолго приезжал туда, чтобы написать о спектакле, и, мне кажется, был искренне очарован и пьесой, и сказочной Лореттой в ее последнем и самом великом спектакле.
Еще через год или два я снова был в Сент-Луисе, и мы снова встретились. Он уже не был журналистом, а преподавал английский в университете Вашингтона недалеко от нас и жил в белом деревянном доме в неовикторианском стиле, который должен был напоминать ему, наверное, его родной Канзас. В этом доме однажды вечером он прочитал свою пьесу «Вернись, малютка Шеба». Он читал ее мне красивым спокойным и выразительным голосом, я был очень тронут пьесой, немедленно послал телеграмму Одри Вуд с сообщением о ней и поторопил его послать ей экземпляр.
Она сразу заинтересовалась, и Билл стал ее клиентом.
Во время репетиций именно этой пьесы — в ней играли такие звезды, как Ширли Бут и покойный ныне Сидни Блэкмер — у Билла случился его первый нервный кризис. Напряжение было слишком сильно для него, и он снимал его обильными возлияниями. Легендарный Пол Бигелоу взял его под свою опеку и положил в больницу — мне кажется, Билл даже не присутствовал на премьере собственной пьесы.
И Билл, и его работа были пронизаны светом гуманности в самом лучшем смысле этого слова. В каждой его пьесе присутствует темная сцена, и эта сцена всегда самая мощная; но он любил своих героев, писал их, чутким ухом улавливая нюансы их речи, смотрел на них, невзирая на все их сложности, с нежностью, как родители смотрят на своих страдающих детей — и у них, как правило, все хорошо кончалось.
Личность Билла была — и осталась — тайной. Даже когда переехал в Нью-Йорк, а может, и раньше, он с большим трудом открывался людям, особенно на всяких общественных мероприятиях. Он был склонен к тихой угрюмости; на его лице всегда лежал отпечаток скрытых страданий; ни на одной вечеринке он не оставался больше чем на полчаса — потом спокойно заявлял: «Мне лучше уйти».
Потому что другие могли пить, а он нет? Или из-за скромности, непонятной никому, кроме Барбары Бэксли, Элиа Казана и миссис Вуд, или от одиночества, одиночества, глубоко пустившего корни в его жизнь, несмотря на долгие годы психоанализа, заслуженную славу и успех?
Его скромность никогда не была неловкой — он обладал истинным благородством и безупречным вкусом, так редко встречающимися в людях «средней Америки» в его квартире на Ист-ривер висели картины художников «с именами», но отражали они его собственный вкус. В интервью с ним вы не встретите ни следа вульгарности — они несколько безличные, но очень умные и скромные.
«Зверинец» шел в Чикаго до середины марта, и еще до того, как он отправился в Нью-Йорк, многие театральные люди приезжали посмотреть спектакль и Лоретту, так что, еще не открывшись в Нью-Йорке, спектакль стал там легендой.
Никто почти не сомневался, что о нем будут писать хорошо все, кроме источника моих бед — критика Джорджа Джина Натана, который заявил, что тут вообще не о чем писать, разве только о Лоретте — и то я не уверен, что его чувства к Лоретте были искренними, поскольку он в честь нью-йоркской премьеры послал ей в подарок бутылку виски.
Лоретта могла пить, могла не пить, мне это было все равно, но она ответила Натану таким вот благодарственным письмом: «Спасибо за вотум доверия».
Слава Богу, той весной она была счастлива и не осознавала, что умирает.
— Я витаю в облаках, — сказала она в одном из интервью.
Она играла этот спектакль полтора года, пожертвовав и личными удобствами, и здоровьем; ей удалось это благодаря героическому упорству, столь же величественному, как и все ее искусство. Умерла она в декабре 1946 года.
Я был в доме Дика Орма на Сент-Питер-стрит в Новом Орлеане, в квартире на втором этаже. Я утром работал, когда Дик закричал мне снизу: «Теннесси, по радио только что передали, что Лоретта Тейлор умерла».
Ответить я не смог.
Через какое-то время он прокричал свою ужасающую фразу: «Я знал, что ты будешь разочарован».
6
Я уже говорил, что после успеха «Зверинца» впал в глубокую депрессию, по всей видимости, потому, что никогда не верил, что все устоит, удержится. Не думал, что мой успех будет развиваться. Я был убежден, что немедленно после успеха должен наступить провал. Так много сил было затрачено, чтобы добиться успеха, что когда мне это удалось и на мой спектакль было совершенно невозможно достать билеты, я не почувствовал даже удовлетворения.
Помню вечер в своем номере в «Алгонквине». Со мной были Одри Вуд, Билл Либлинг, мама, а я чувствовал себя таким усталым, что не мог встать с дивана. Внезапно меня стало тошнить, и я помчался в ванную — меня рвало.
Мама сказала: «Том, тебе надо отдохнуть, поедем домой, хоть ненадолго».
Но не дома было мое сердце. Я решил съездить в Мексику, где мне было так хорошо летом 1940 года. Я поехал туда через Даллас, где мой дорогой друг Марго Джонс, ныне тоже покойная, в своем театре ставила первый вариант пьесы «Лето и дым». Спектакль мне показался ужасающим. Но я любил Марго и сделал вид, что мне понравилось. Вскоре я поездом отправился в Мехико, проехал через горы Сиерра-Мадре, удивительно чарующие в те дни, и поселился в филиале громадного отеля «Реформа».
Сначала я чувствовал себя одиноким. Но вскоре встретил Леонарда Бернстайна, отнесшегося ко мне по-дружески; потом познакомился с одним богатым мужчиной, который устраивал по субботам в своей квартире исключительно мужские вечеринки, и больше мне не было одиноко. На вечеринках в основном танцевали, и там я научился быть ведомым. У мексиканцев, видите ли, комплекс «мачо», а я был низковат, чтобы вести самому, поэтому быстро научился быть ведомым. То было счастливое время, но я никогда не был полигамным — если была возможность — и был счастлив познакомиться на столичном бульваре с юным студентом, частично индейцем, с потрясающе красивыми фигурой и душой. Прогуливаясь, я услышал за спиной шаги, очень близко от меня, обернулся и увидел этого прекрасного мальчика. Вдоль Эль Пассо стояли каменные скамейки, парень остановился и сел рядом со мной. Я ни слова не знал по-испански, он мало что понимал по-английски, но эту ночь мы провели в моем номере в филиале отеля «Реформа», маленьком отельчике «Линкольн», в котором постояльцам не возбранялось приводить к себе гостей.