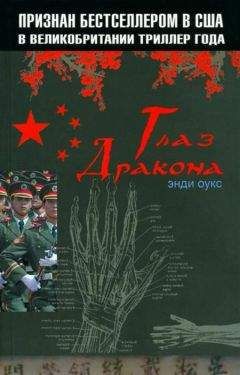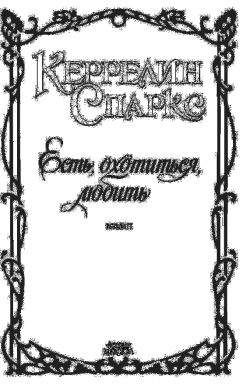Михаил Алпатов - Александр Иванов
В Риме в годы папского владычества евреям разрешалось жить только неподалеку от Капитолия. В страшной тесноте и грязи ютилась здесь беднота. На тесных улицах сушилось тряпье, из окон прямо на улицу выливались помои, и потому прохожим даже в ясные дни приходилось держать над головой зонты. Рынок был завален так называемыми «плодами моря», издававшими страшное зловоние. Тут же высились величественные остатки древнеримского портика Октавии. Здесь можно было встретить людей, всем обликом своим, осанкой и выражением лиц переносящих вас в седую старину израильских царей и иудейских патриархов.
В поисках моделей Иванов становится усердным посетителем еврейского квартала. Он выискивал на улицах кудрявых черноглазых мальчиков и зазывал их к себе в мастерскую. Он посещал синагоги, где можно было видеть седых длиннобородых стариков и вступал с ними в долгие разговоры, обнаруживая такую начитанность в библейских текстах, что те готовы были признать его своим. В летнее время Иванов посещал приморские города, где во время купанья можно было наблюдать еврейских негоциантов и представить себе, как совершалось омовение на Иордане.
В альбомах Иванова появляется множество зарисовок еврейских типов с натуры и по памяти. Они испещряются адресами лиц, которых он приглашал к себе в мастерскую. Но поиски нужных типов увенчивались успехом лишь после долгих и настойчивых усилий. Иногда за один или два года удавалось найти лишь одного человека, которому можно было поручить исполнять в картине ту или другую роль.
Однажды по дороге из Генуи в Милан в карету, в которой ехал Иванов, влез седой чиновник с огрубелыми чертами лица и признаками довольства. Художник был поражен, увидав в этом живом человеке воплощение искомого им «идеала мытарства» Сборщики податей, мытарей, должны были найти себе место в его картине.
Уже в работе над «Аполлоном» и «Явлением Христа Марии Магдалине» Иванов выработал свою систему. Эта система получила дальнейшее развитие, когда он приступил к «Явлению Мессии». С первого взгляда можно подумать, что сущность ее сводится к соединению в одном образе картины черт, заимствованных у разных лиц. Между тем Иванов не забывал, что человека нельзя рассматривать как сумму признаков его характера или черт его внешности. Он не упускал из виду неповторимой целостности человеческой личности и потому не пытался создать своих героев путем сложения отдельных разрозненных черт. Это не исключало того, что он подвергал долгому искусу свою модель, прежде чем возникал тот образ, который мог найти себе доступ в картину.
Иванов начинал с внимательного изучения внешнего облика, анатомического строения тела или лица модели. Нужно было прежде всего узнать и рассмотреть человека, а потом уже решить, чем он может стать в картине. По примеру мастеров Возрождения он совлекал со своих героев одежды, чтобы яснее представить себе их позу и движение. Иванов был подобен романисту, который должен сначала уяснить себе сухую биографическую канву жизни героя и лишь после этого в состоянии решить вопрос о том, как включить этого героя в ткань замышляемого романа.
«Явление Мессии». 1837–1857 годы.
«Голова Иоанна Крестителя».
«Голова фарисея в чалме». 1840-е годы.
«Голова раба». 1840-е годы.
Не ограничиваясь этим изучением модели, Иванов надевает на нее «исторический костюм» и тем приближает ее облик к старине, то меняет характер волос и растительности на лице, то заостряет черты, усиливает в них выражение в желанном ему направлении. Часто он сопоставлял на одном холсте две фигуры или две головы. Он называл это методом «сличения и сравнения». Иногда это два будущих собеседника в картине. Иногда живой человек оказывался сопоставленным со слепком прославленной античной статуи. Иногда сопоставлялись образы родственные, иногда, наоборот, контрастные, и тогда особенно резко выступали индивидуальные особенности каждого из них.
Можно представить себе, как в тиши своей огромной мастерской, окружив себя множеством различных этюдов одного и того же персонажа, всматриваясь в лица, в которых в результате настойчивого, упорного труда или умело использованной случайности выступали то одни, то другие черты, художник как бы прислушивался к их речам, как бы сам вступал с ними в беседу, вдумывался в смысл каждого из этих лиц и, не жалея затраченных сил и жертвуя многими достижениями, выбирал среди них лишь то, что могло без ущерба для целого войти в постепенно слагавшуюся у него на глазах картину.
В результате своих многолетних трудов Иванов создает обширную галерею людей, различных по своему общественному положению, по возрасту и по характеру. Здесь и люди состоятельные, изнеженные, и — жалкие, бедные, убогие; гордые своим положением представители высших классов и люди подневольные, зависимые, приниженные; суровые воины и утомленные странствиями странники; дряхлые старики и старики, полные еще сил и крепости духа; мужчины во цвете лет, юноши, женщины; люди, ищущие и жаждущие истины; люди, сильные духом, и — сломленной воли; мудрые и простодушные; люди, способные быстро воспламеняться, и люди вдумчивые, сдержанные, доверчивые и сомневающиеся; люди решительного действия и созерцательные; любопытствующие и равнодушные; добродушные, приветливые и озлобленные, ожесточенные.
Кого бы Иванов ни изображал, какой бы отпечаток страстей или страданий, немощи или волнений ни был на лицах, сквозь эти черты неизменно проглядывает представление художника о норме, о естественности, о красоте человека. Вот почему при всем разнообразии галереи Иванова все его люди — добрые и злые, красивые и безобразные, спокойные и взволнованные — несут на себе отпечаток высокого строя мыслей их создателя.
Образ раба стоил Иванову напряженных исканий, как ни один другой персонаж его картины. То это худой, изможденный мужчина с костлявым острым носом и большими черными глазами, с лохматыми, падающими на лоб волосами, восторженно взирающий на пророка, — можно догадаться, что он уже увидел свое близкое освобождение и поверил в него. То это забитое, одичавшее существо — смотрит исподлобья, брови его нахмурены, глаз не видно, зато подчеркнуты широко раскрытые толстые губы. Если первый уже встрепенулся, поднялся, выпрямился и загорелся, то второй еще ничего не увидел, из уст его может раздаться только брань; нетрудно догадаться, что он сильно сутулится, словно прижатый к земле.
В последующих этюдах заметно, как развивается образ «узревшего» человека. Те же спутанные на голове волосы, длинный нос и обращенный кверху взгляд. Глаза блестят, брови чуть приподняты, он смотрит с трогательной надеждой и верой, простое и грубое лицо светится теплотой. Иванов сближает образ раба с знаменитой античной статуей точильщика, который сидит на земле и с жалостным выражением поднял кверху голову. Затем в повороте раба он рисует голову Лаокоона и делает маслом этюды со слепков «Танцующего фавна» и «Кентавра». Наконец он обращается к знаменитой римской натурщице Мариучче. Он предлагает ей встать в такую позу и принять такое выражение, будто она вступила в пререкания со своим воображаемым противником. В поднятых уголках ее губ отпечатлелось одно из тех переживаний, которое должно было войти в образ раба.