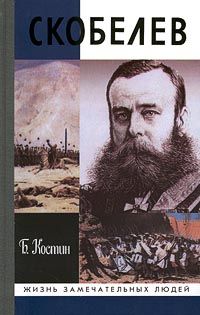Валерий Есипов - Шаламов
Очень интересен и многозначителен эпизод об одном из споров в студенческом общежитии, который приводит Шаламов, — на тему «что было бы, если бы вдруг стало нельзя писать стихи, и что стали бы делать наши поэты?». Все спорщики склонились к такому мнению: «Сельвинский стал бы бухгалтером в "Пушторге", Безыменский — на партийной работе, Жаров и Уткин — на комсомольской, Маяковский — в одном из рекламных агентств… А что Асеев? Асеев перестал бы жить»…
Это черновой вариант воспоминаний, он передает юмор, свойственный студентам, но в окончательном варианте Шаламов со свойственной ему серьезностью написал: «Мы думали, что и Асеев считает, что поэзия — судьба, а не ремесло. Маяковский показал это 14 апреля 1930 года — после того, как страстно уверял в обратном…»
Формула «поэзия — судьба, а не ремесло» — одна из часто встречающихся у Шаламова. Именно два трагических ухода из жизни — Есенина и Маяковского — заставили Варлама впервые задуматься о цене поэтического слова и его подкрепленности поступком, действием, жизнью, а не только «мастерством». Но это было позже — о самоубийстве Маяковского он узнал уже в Вишерском лагере. Заметим сразу, что первое пребывание в лагере не изменило революционных убеждений Шаламова и его поэтических привязанностей. Шаламов много и по-разному писал о Маяковском. Наиболее адекватным мировосприятию его молодости будет не слишком отдаленный по времени очерк-воспоминание «Маяковский разговаривает с читателем», опубликованный после Вишеры в «Огоньке» (1934, № 10). Вот наиболее характерный эпизод:
«1927 г. Зал Политехнического музея шумит на вечерах Маяковского. Лекция "Даешь изящную жизнь". "Я — за кружевные занавески на окнах рабочих квартир, — начинает Маяковский. — Я за канарейку в комнате рабочего! Мещанство — не в вещах, мещанство в людях! Мещанство — вот в этой папке! — Из огромного портфеля вытаскивает Маяковский "революционный" романс Музгиза "А сердце-то в партию тянет".
— Внимание! "У партийца Епишки / Партийные книжки, / На плечах френчик, ах френчик, френчик, / Голосок, как бубенчик, бубенчик".
— Вот полюбуйтесь! Бубенчик! Епишка, у которого партийные книжки. Не книжка — партбилет, а книжки. Вам смешно? А тут не один смех слышится. Этот бубенчик звенит о том, что "на плечиках френчик". Откуда этот френчик на плечах? Такие френчики носили господа офицеры — на плечах. Вот с чем нужно бороться. Против этого контрреволюционного "бубенчика", за изящную жизнь, за красивую жизнь, которую мы вплотную начинаем строить. Переходим к стихам:
— Делами, / кровью, / строкою вот этою, / Нигде не бывшею в найме, / Я славлю взвитое красной ракетою / Октябрьское / Руганное, пропетое, / Пробитое пулями — знамя!
Аплодисменты всего зала».
Интересны наблюдения Шаламова о причинах эпатажного и нередко грубого поведения Маяковского на вечерах в Политехническом музее. Публика здесь разделялась на галерку (студентов) и первые ряды, которые занимали обычно его недруги. «Это была чужая, враждебная аудитория, состоящая из нэпманов, которую поэт должен был подавить, укротить, оскорбить, оглушить своим басом, — писал Шаламов. — Это была коммерческая аудитория, где Маяковский выступал за деньги, аккуратно внося в свою финансовую декларацию все заработки. Организаторы этих вечеров не были склонны к благотворительности».
Восхищение Шаламова Маяковским всегда сопровождалось недоумениями по поводу нигилистического отношения поэта к классике, «борьбы» с Пушкиным и Блоком. В воспоминаниях «Двадцатые годы» он писал: «Мне кажется, Маяковский был жертвой своих собственных литературных теорий, честно, но узко понятой задачи служения современности». В этом он видел одну из причин его самоубийства. Но, зная о предсмертной записке — «любовная лодка разбилась о быт», и зная о сложностях личной жизни поэта, о его увлеченности в этот период В. Полонской, он сделал в конце концов вывод, что самоубийство произошло прежде всего из-за того, что «Маяковский преувеличивал прямо патологически отношение к женщине как таковой, не мог ухаживать, не вкладывая всю душу в женский вопрос, где всю душу вкладывать не надо» (последняя фраза характерна для позднего, послеколымского Шаламова, который гораздо менее эмоционально воспринимал разрывы с женщинами).
Маяковскому и ЛЕФу Шаламов считал себя обязанным очень многим. Формула «поэзия — судьба, а не ремесло» для него не значила отрицание «ремесла», то есть мастерства — наоборот, на первых порах он потратил огромные усилия на изучение, в том числе теоретическое, секретов техники искусства. Наивные представления о том, что стихи создаются «нутром», интуицией, простым подбором рифм, были разбиты при первом же знакомстве с манифестами ЛЕФа и сборниками ОПОЯЗа.
Еще в конце 1927 года он начал посещать кружок одного из теоретиков нового, «левого» искусства Осипа Брика. Предыстория этого такова. Шаламов почти каждый вечер просиживал в Ленинской библиотеке (она располагалась в Доме Пашкова). «В те блаженные времена, — вспоминал он, — выписка книг не ограничивалась ни в количестве, ни в продолжительности чтения. В библиотеке был и буфет, не очень богатый, вроде бутербродов с кетой, но в те дни, когда буфет работал, я оставался в библиотеке допоздна. Однажды во время сдачи, а книг была целая гора, — рядом со мной раздался резкий женский голос:
— Вот эти книги, которые нам нужны. Когда вы их сдадите?
— Когда сдам, тогда и сдам.
— Ну все-таки, зачем вам ранний футуризм?
— Затем, — отвечал я вполне логично, — что я интересуюсь ранним футуризмом.
— А не хотите ли прийти на кружок, где изучают вопросы раннего футуризма? Вот, запишите адрес: Гендриков переулок, квартира Маяковского. Маяковский сейчас за границей, а наш кружок ведет Осип Максимович Брик. Запишите: занятия по четвергам, приходите, пожалуйста.
В ближайший четверг я пришел в Гендриков переулок и остановился у двери, на которой были прикреплены одна над другой две одинаковые медные дощечки, верхняя: "Брик", нижняя: "Маяковский"».
О содержании занятий кружка (это был «Молодой ЛЕФ») Шаламов отзывался весьма скептически. Собственно, занятий и не было. Брик не скрывал презрения к своим молодым слушателям. По его высокомерному тону можно было понять, что стихи начинающих здесь отвергаются в принципе, Брик так и говорил: «Пишущим стихи сюда вход воспрещен» и «если он увидит хоть строчку этой отравы — вон, вон». Он с удовольствием выслушивал, поддакивая, разнообразные остроты, направленные против «конструктивистов» — противников ЛЕФа. Но о новом искусстве, его принципах почти ничего не говорил. Шаламов особенно запомнил одну сцену: