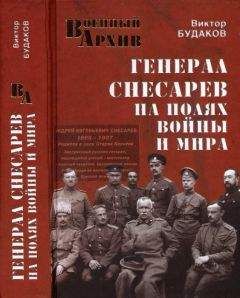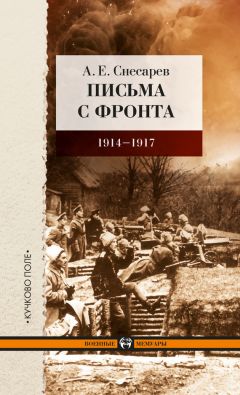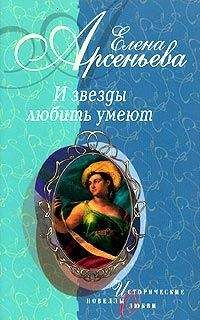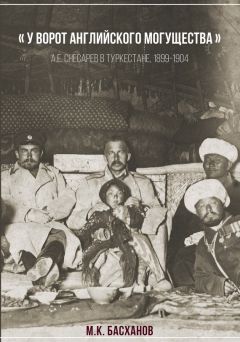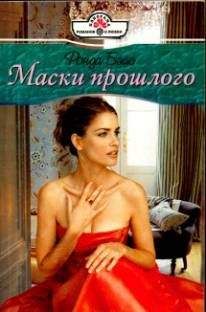Елена Прокофьева - Плевицкая. Между искусством и разведкой
Надежда осталась очень довольна и тем, как она все рассказала, и тем, как журналист написал, обрамляя ее цитаты в "благородное негодование", "искреннее недоумение" и "с трудом сдерживаемые слезы, зазвучавшие в голосе певицы".
Но это маленькое интервью вызвало совершенно не ту реакцию, какую она ожидала…
В редакцию "Утра России" пришло возмущенное письмо от Митрофана Ефремовича Пятницкого, известнейшего собирателя и исполнителя русских народных песен, основавшего в 1910 году свой знаменитый русский народный хор: "Госпожа Плевицкая чувствует себя обиженной "этнографами"… Может ли кто-нибудь обидеть такую самоуверенную "крестьянку", для которой кажутся неинтересными "архаичные" народные мелодии? Невзлюбила госпожа Плевицкая сложившуюся веками народную песню и утверждает, что "Хаз-Булат", "Ветка-однолетка" и другие песни ее репертуара вполне народные и что "не этнографам с ней в знании народной жизни спорить"… Удивляемся, зачем понадобилось газете публиковать смешные претензии милейшей Надежды Васильевны".
Письмо Пятницкого напечатано не было. Но его переписали и "пустили по рукам" — мало кто из представителей музыкальной богемы не прочел его. Поскольку среди интеллектуалов Пятницкий и его этнографические постановки пользовались куда большим уважением, нежели популярная и модная Плевицкая, поднялись голоса в защиту этнографов и настоящей русской песни. И очень скоро Плевицкой пришлось раскаяться в этом своем единственном интервью.
До сих пор на "цареву любимицу", на "первую народную", "на сермяжную царицу" нападать не осмеливались. Но до сих пор она была скромна! Или — пела, или — молчала. А тут осмелилась заговорить, да как! Высказывания Плевицкой на страницах "Утра России" сочли наглыми и претенциозными. Тут же появился комический куплет, высмеивающий "сермяжную царицу", в котором, в частности, были такие слова:
А вот вам баба от сохи
Теперь в концертах выступает,
Поет сбор разной чепухи.
За выход тыщу получает…
Появились и карикатуры на Плевицкую, высмеивающие заодно и ее почитателей. В частности, на той, что была напечатана в "Сатириконе", был изображен эдакий домашний концерт: на стене висит плакат "Все билеты проданы", на стульях вдоль стены — разряженная барыня, барин с моноклем в глазу, гимназистка в передничке и студент в форме, а перед ними — кухарка, поющая и аккомпанирующая себе на кастрюле, и в уродливой этой кухарке с широко разинутым орущим ртом любой мог легко узнать черты "царевой любимицы"… Подпись: "Теперь каждый может позволить себе концерты своей собственной Плевицкой".
Еще один критик — умный и тонкий, к чьему мнению внимательно прислушивалась общественность, — написал статью, внешне хвалебную, но буквально сочившуюся скрытым ядом. Эпиграфом к статье было "явление седьмое" из "Плодов просвещения" Л.Н.Толстого.
Григорий (кухарке): Давай капусты кислой!
Кухарка: Только с погреба пришла, опять лезть. Кому это?
Григорий: Барышням тюрю. Живо! С Семеном пришли, а мне некогда.
Кухарка: Вот наедятся сладкого так, что больше не лезет, их и потянет на капусту.
1-й мужик. Для прочистки, значит.
Кухарка: Ну да, опрастают место, опять валяй!
Ехидный критик сравнивал зрителей, восхищавшихся пением Плевицкой, с теми самыми барышнями, которые "объелись сладкого", то есть пресытились классической музыкой, пением итальянцев и прочих иноземных соловьев. Восхищался мудростью "1-го мужика", который нашел такое точное определение происходящему: дескать, увлечение народными песнями Плевицкой — это "для прочистки", а потом снова вернутся к "сладкому" и с новым наслаждением станут слушать итальянцев. Ее же, Плевицкой, искусство, естественно, играло роль "тюри" или "кислой капусты"…
Заласканная, захваленная, привыкшая к повальному восхищению и ослепительной славе, Плевицкая восприняла все это настолько болезненно, почувствовала себя настолько глубоко оскорбленной, что даже и впрямь начала хворать, хотя прежде отличалась несокрушимым здоровьем… Поклонники подняли шум, обвинили противников в "травле", хотя и травли-то никакой не было, мало кто из великих не удостаивался в те вольные времена насмешливой критики: даже Шаляпина не пощадили… Но другие спокойно "встречали удар", понимая, что невозможно быть знаменитым — и не подвергаться нападкам. Федора Ивановича Шаляпина даже забавляли газетные шаржи, он вырезал их и сохранял в особом альбоме. А Надежда Плевицкая не умела и не желала сносить насмешек.
Как большинство деревенских, она была болезненно самолюбива.
Больше интервью она не давала — до самой революции.
А в газетные публикации, где упоминалось ее имя, Плевицкая вчитывалась теперь с подозрительностью, выискивая какое-нибудь очередное оскорбление. Кто ищет — тот всегда найдет: некий театральный деятель — не критик даже, а режиссер — написал о Плевицкой восхищенный очерк, в котором, однако, упоминал, что она — "простая женщина", что "концертное платье дурно сидит на ней", что она "кажется, вовсе не знает, как вести себя на сцене", но при этом преображается несказанно, стоит ей только запеть! Похвалы Плевицкая не удостоила внимания, потому что считала их само собой разумеющимися, зато слова о "дурно сидящем концертном платье" нанесли еще одну рану ее самолюбию, после чего белье она стала покупать в очень дорогом английском корсетном магазине и нашла портниху-волшебницу, русскую по происхождению, но притворявшуюся, как водится, француженкой, которая и шила ей те самые знаменитые концертные платья, облегавшие ее фигуру как перчатка.
VОсень и зиму Надежда, как всегда, провела в концертных турне, работала напряженно, с обычной своей самоотдачей, но прежних сил у нее уже не было, и, несмотря на благословенный летний отдых в родном Винникове, уже к Рождеству она утомилась настолько, что приходилось вдвое ужимать концертную программу, чтобы певица могла выстоять на сцене, не лишившись чувств. Да, она начала падать в обмороки. Прежде считала это прихотью избалованных барышень: чуть что не по ним — хлоп в обморок, да прямо в объятия кавалеру! Но теперь чувство дурноты почти не отпускало ее, а случалось, что после концерта в гримерной ее окутывал мгновенный мрак, и приходила в себя она уже лежа на софе, в окружении встревоженных горничной, гримерши и распорядителя. Гримерша терла ей виски одеколоном. Маша же привычным жестом подставляла тазик: после обмороков Надежду всегда рвало.
Карикатура на Н.В. Плевицкую. Начало XX в.