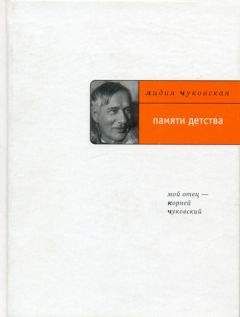Лидия Чуковская - Записки об Анне Ахматовой. 1952-1962
За это время Анна Андреевна была у меня дважды; первый раз я не записала вовремя, да и ничего особенно интересного не говорилось; а второй раз это третьего дня, 28/VI.
Она позвонила мне перед вечером и попросила увезти ее к себе, потому что Ардовы празднуют день рождения Евгении Михайловны, матери Виктора Ефимовича: у них шумно, а у нее голова болит. И вот преподнесла мне «Белую Стаю». Села за большой письменный стол Корнея Ивановича, и я положила перед ней все ее книги. Она начала перелистывать «Из шести книг» и проставлять под стихами даты. Потом зачеркнула над стихотворением «Как мог ты, сильный и свободный» имя Шилейко и объяснила мне:
– Никакого отношения к Владимиру Казимировичу эти стихи не имели. Пришлось в ту пору так пометить, чтобы прекратить сплетни[110].
Над стихами «Зажженных рано фонарей» вместо «Встреча» поставила «Призрак»[111]. Книга «Ива», оказывается, должна называться «Тростник» (она объяснила, почему[112]), и первое стихотворение там не «Ива», а Лозинскому («Почти что от летейской тени»[113]).
Я спросила у нее, что она сейчас читает?
– «Мистерии»!
Я обрадовалась: изо всех гамсуновских романов этот мой самый любимый.
– Я читала его лет 30 назад, – сказала Анна Андреевна. – Конечно, в смысле чувств я его и тогда понимала вполне, а в смысле литературном – нет. Я только сейчас до конца поняла, какая это смелая вещь – в ней и Джойс, и вся современная литератуpa – и какая она русская, как виден в ней Достоевский.
Я спросила, за что она не любит Станиславского? (Однажды мимоходом призналась.)
– Не люблю, он многое и многих загубил в театре. Он нашел способ ставить чеховские пьесы, что-то в них открыл, но потом пытался применить тот же метод к другим пьесам – паузы и пр., – и это оказалось губительно. Мы видим, что вышло. Не говорите, пожалуйста, как все: «плохо, мол, сделалось без него», «бездарные люди не умеют применять его систему» – и при нем было точно то же, не обольщайтесь. Когда в других театрах смотришь, например, «Федру», – думаешь о страстях человеческих, о любви, о судьбе, о смерти. Это и есть театр. А когда смотришь спектакль, поставленный Станиславским, все так уж реально, так уж точь-в-точь, что думаешь: а есть ли в этой квартире комната для домашней работницы? а не пора ли им уже обедать – они что-то давно не ели? а не пора ли уж и в уборную?
Я спросила, видела ли она Станиславского на сцене? (Я видела в «Вишневом саде» – и никогда не забуду: великий актер.)
– На сцене не случалось, – ответила Анна Андреевна. – А лично видела. В санатории. Там все демонстративно его обожали.
– А был ли он в самом деле такой красивый, как на фотографии? – спросила я.
– Что вы! Нисколько! Напротив: обезьянье лицо, обезьяньи руки. Но вот чем он мне привлекателен: настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать: только бы ставить и ставить спектакли, только бы торжествовал театр. «Жизнь» помимо театра его просто не занимала: такая ли, иная ли…
Я пошла ее проводить. По дороге заговорили о Фрейде. Я призналась в своей нелюбви. Все мне кажется неправдивым, придуманным в его теориях, кроме, разве, той огромной роли, какую он приписывает раннему детству.
– Фрейд – мой личный враг, – с торжественной медлительностью произнесла Анна Андреевна. – Ненавижу все. И все ложь. Любовь для мальчика или девочки начинается за порогом дома, а он возвращает ее назад, в дом, к какому-то кровосмешению… А насчет раннего детства догадывались и без него.
Анна Андреевна шла трудно, с одышкой. Я остановила такси. В машине случился смешной эпизод: она прочитала мне одно свое давнее стихотворение, которого я никогда не слыхала.
Кажется, так:
Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.
И дальше:
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.
Жалуясь, что безнадежно забыла какие-то первые четыре строки, Анна Андреевна потребовала, чтобы я их вспомнила. Я ей толкую: это стихотворение вы мне сейчас прочитали в первый раз! А она повторяет:
– Ну постарайтесь… пожалуйста… припомните… Я вас прошу… Тут не хватает всего только четырех строк… Для вас это пустяки. Вы – моя последняя надежда.
Я опять объясняю, что стихов этих до сего дня никогда не слыхала. Она словно поняла, поверила, и мы заговорили о другом.
Но когда я помогала ей выйти из машины во дворе ее дома, она повторила опять:
– Пожалуйста, вспомните первые четыре строки. Остальное известно[114].
11 июля 55 Вчера днем я забегала ненадолго к Анне Андреевне. Она собиралась в гости. Мы посидели за столом в столовой вместе с Мишей и Виктором Ефимовичем. Ели молодую картошку и огурцы. Виктор Ефимович во главе стола в сапожницком фартуке мастерит какой-то короб: орудует шилом, прошивает крышку толщенными нитками, как заправский сапожник. Миша хозяйничает. С первого взгляда он разительно похож на отца, со второго видишь в нем Нину: смуглое белозубое лицо, бархатные темные глаза, что-то мягкое сквозь решительность. Анна Андреевна недавно сказала мне: «Миша у нас добрый, как девочка».
Она собиралась к Фаине Георгиевне53, переодевалась, долго говорила по телефону. Видела я ее сегодня лишь мельком и на людах. За столом я начала цитировать идиотическую рецензию Аожечко – «внутреннюю» – на чьи-то стихи:
«Ритм обыкновенный, рифма нормальная, поэтика на среднем уровне» – и не могла продолжать, потому что у Анны Андреевны исказилось лицо и она ударила кулаком по столу:
– Это бандит! Это бандитизм!
(Меня порадовало ее возмущение: братья-литераторы давно разучились возмущаться такими вещами и принимают невежество и наглость Аожечко как нечто неизбежное. Я это много раз наблюдала. А ведь Аожечко надо лишить права рецензировать рукописи за эту одну-единственную фразу, и бороться против Аожечко обязаны мы54.)
Миша вызвал машину и проводил нас через двор. Анна Андреевна велела шоферу ехать по улице Горького. В машине я ей рассказала, что, перечитывая блоковские «Записные книжки», с удивлением слежу за черновиками55: оказывается, стихи его лились потоком, сплошным, общим, и только потом, постепенно из этого общего потока выкристаллизовывались отдельные стихотворения, посвященные разным людям и «на разные темы». А поначалу они были едины. Словно широкая река у нас на глазах распадается на речки, ручейки, озера.
– Это очень интересное наблюдение, – сказала Анна Андреевна. – Вам непременно следует написать статью. Ведь обычно-то бывает наоборот…56 А вы не заметили там черновика стихотворения, посвященного мне? Нет? В окончательном виде это мадригал, все как полагается, а в черновике чего только нет: тут и демон, тут и невесть что…57