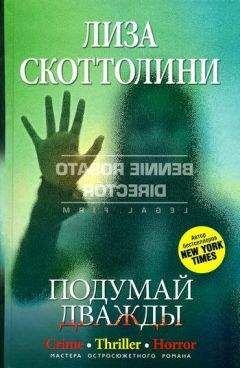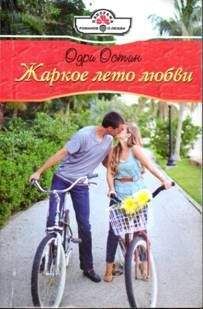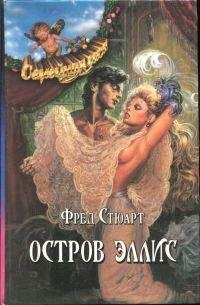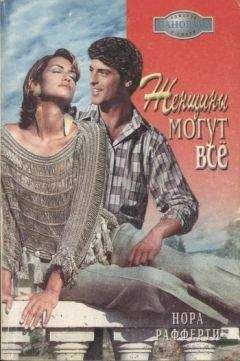Оливер Сакс - Нога как точка опоры (2012)
И неожиданно в тишину, в безмолвное щебетание неподвижных застывших образов ворвалась музыка, ликующая музыка Мендельсона — фортиссимо! Жизнь, пьянящее движение! И так же неожиданно, без размышлений, без какого-либо намерения я обнаружил, что иду — иду легко, вместе с музыкой. И так же неожиданно в тот момент, когда началась эта внутренняя музыка, музыка Мендельсона, призванная моей душой и пригрезившаяся ей, именно в тот момент, когда ко мне вернулась моя «двигательная» музыка, моя кинетическая мелодия, — в этот же момент вернулась моя нога. Внезапно, без предупреждения, без какого-либо перехода нога стала живой, настоящей, моей; момент актуализации точно совпал со спонтанным возрождением, движением и музыкой. Я как раз поворачивал из коридора в свою палату, когда как гром с ясного неба произошло это чудо: музыка, ходьба, актуализация — все одновременно. И тут столь же внезапно я ощутил абсолютную уверенность — я поверил в свою ногу, я знал, как ходить...
— Только что произошло нечто экстраординарное, — сказал я физиотерапевтам. — Я теперь могу ходить. Отпустите меня — только лучше будьте рядом!
И я действительно шел — несмотря на слабость, несмотря на гипс, несмотря на костыли, несмотря ни на что, — шел легко, автоматически, спонтанно, с вернувшейся мелодией движения, которая каким-то образом была вызвана мелодией Мендельсона и созвучна ей.
Я шел с шиком — в стиле, который был неподражаемо моим. Те, кто это наблюдал, испытывали чувства, сходные с моими. «Вы раньше шли механически, как робот, — сказали они. — Теперь вы идете как личность, как вы сам».
Это было, как если бы я вспомнил, как нужно ходить, — нет, никакого «если бы»: я действительно вспомнил! Совершенно неожиданно я вспомнил естественный, бессознательный ритм и мелодию ходьбы, они внезапно вернулись ко мне — как вспоминается когда-то знакомый, но давно забытый напев, вернулись рука об руку с ритмом и мелодией Мендельсона. В этот момент совершился резкий и окончательный скачок — не процесс, не переход — от неуклюжей, искусственной, механической ходьбы, когда каждый шаг нужно было сознательно рассчитывать и совершать, к неосознанному, естественно-грациозному, музыкальному движению.
Снова я сразу же подумал о Засецком в «Потерянном и возвращенном мире» и его поворотном моменте, описанном Лурией, — о неожиданном открытии, которое Засецкий однажды сделал; письмо, которое раньше было ужасно трудным, когда он мучился над каждой буквой и чертой, могло стать совершенно легким, если дать себе волю, если бессознательно и без стеснения отдаться естественному течению, мелодии, спонтанности. И еще я подумал о бесчисленных, пусть и менее эффектных собственных впечатлениях — когда я учился бегать или плавать, сначала сознательно рассчитывая каждый шаг или движение, а потом совершенно неожиданно открывал, что «проникся», что каким-то таинственным образом, без малейших усилий «уловил», «вошел в ритм», «прочувствовал» движение, что теперь я делал все правильно и легко, без сознательного расчета, а просто отдавшись действию в собственном темпе и ритме. Это ощущение было таким обычным, что я едва ли о нем задумывался; теперь же я внезапно обнаружил, что оно было самым главным.
Я подумал о том, что совпадение возможности ходить с Мендельсоном было капризом судьбы — простым совпадением, не имеющим особого значения, и вдруг, шагая вперед, полный уверенности в себе, я неожиданно пережил рецидив: внезапно забыл свою кинетическую мелодию, забыл, как ходить. В этот момент так же резко, как если бы игла была поднята с пластинки, внутреннее звучание Мендельсона прекратилось, и в момент его прекращения моя ходьба прекратилась тоже. Нога неожиданно перестала быть надежной и реальной и вернулась к кинематическому бреду, прежним ужасным скачкам формы, размера, структуры. Как только прекратилась музыка, прекратилась и ходьба, а нога превратилась в колеблющийся фантом. Как мог я усомниться в значимости всего этого? Музыка, действие, реальность — все это было едино.
Я снова был беспомощен и едва мог стоять.
Двое физиотерапевтов подвели меня к перилам, в которые я вцепился изо всех сил.
Левая нога безжизненно шлепала. Я коснулся ее — она была лишена тонуса, была нереальной.
— Не пугайтесь, — сказал один из физиотерапевтов. — Это местная усталость. Дайте нервным окончаниям немного отдохнуть, и все снова наладится.
Наполовину опираясь о перила, наполовину стоя на здоровой конечности, я дал отдых левой ноге. Бред уменьшился, отклонения стали менее резкими, хотя продолжались с той же частотой. Примерно через две минуты наступила относительная стабильность. Вместе со своими помощниками я рискнул двинуться дальше. Ко мне снова вернулась музыка, столь же неожиданно, как в первый раз, и с ее возвратом появились спонтанность, ходьба без размышлений, тонус в ноге. К счастью, до моей палаты оставалось всего несколько футов, и я смог удержать музыку — и музыкальность движения, — пока не добрался до своего кресла, а оттуда — до кровати; я был измучен, но торжествовал.
Я испытывал экстаз. Казалось, произошло чудо. Реальность моей ноги, способность снова стоять и ходить вернулись ко мне, снизошли как благодать. Теперь, воссоединившись с ногой, с той частью себя, которая была отлучена от меня, я был полон нежности к ней и поглаживал гипс. Я от всей души приветствовал утраченную и вернувшуюся ногу. Нога вернулась домой, к себе домой — ко мне. Действие тела было нарушено, и только теперь, с возвратом телесной активности как целого, тело как таковое стало ощущать себя единым.
До того как началась музыка, не было совсем никаких ощущений — то есть не было ощущения феномена как такового. Это стало особенно ясным в немногие фантастические минуты калейдоскопического мелькания образов. Оно было впечатляющим, самым впечатляющим зрелищем в моей жизни, но это было именно зрелищем, а я — зрителем. Не было «входа внутрь», не было даже мысли о возможности войти в эти чисто сенсорные и интеллектуальные феномены. Я смотрел на них, как смотрят на фейерверк или на звезды. Они обладали холодной безличной красотой, красотой математики, астрономии, неба.
Затем неожиданно, безо всякого предупреждения в такой же холодный и безличный микрокосмос разума вошла музыка, теплая, живая, подвижная, личная. Музыка, как это грезилось мне раньше, была божественным посланием и вестницей жизни. Она была в первую очередь быстрой — «ускоряющим искусством», как называл ее Кант, возрождающей душу, а вместе с ней и тело, так что внезапно, спонтанно в меня ворвалось движение, моя личная перцептивная кинетическая мелодия, в которую вдохнула жизнь внутренняя жизнь музыки. И в этот момент, когда тело обрело действие, нога сделалась живой, плоть стала музыкой, воплощенной вещественной музыкой. В тот момент весь я телом и душой сделался музыкой.