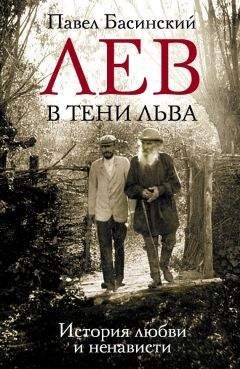Павел Басинский - Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды
Долгое время он скрывал от жены и тестя, что посылает деньги своей сурской родне. В 1879 году, уже на двадцать четвертом году своего служения, он пишет племяннику Евдокиму Фиделину: «О получении денег прошу известить меня чрез брата, а не прямо, лично меня, чтобы не соблазнить домашних моих». (Брат Евдокима, Иван Васильевич Фиделин, в это время уже проживал в Кронштадте, работая журналистом в газете «Кронштадтский вестник». Но остановиться на квартире дядюшки он не мог: «… живет на особой квартире, не по моей вине».)
«Бессемейный» образ жизни, который будто бы избрал себе отец Иоанн, желая целиком посвятить себя служению Богу, в реальности обернулся тем, что его разрывали на части одновременно две семьи – одна многочисленная (Несвицкие), вторая – безразмерная (северная родня, их родственники, родственники родственников).
Но была и еще одна, третья семья, состав которой исчислялся уже тысячами людей. Это были нищие города Кронштадта. Каждый из них ощущал себя не просто бедняком, которому благодетельствует некий добрый человек, а тем более некая благотворительная организация. Нет, они воспринимали свои отношения с отцом Иоанном именно как связь с родителем – с отцом. Это была требовательная любовь с известными обидами и претензиями.
В Кронштадте говорили: «строй отца Иоанна». Описание этого «строя» мы находим в заметке писателя и сотрудника «Петербургского листка» и «Петербургской газеты» Н.Н.Животова.
«СТРОЙ…»
Чуть загорелся восток… С моря потянуло прохладой… Спит еще Кронштадт, и только «посадская голь» начала вылезать из своих «щелей» – грязных вонючих углов в низеньких ветхих домишках. «Боже, неужели здесь живут люди», – думал я, обходя в первый раз посадские трущобы, точно вросшие в землю. Оказалось, что не только живут, но живут плотнее и скученнее, чем, например, в богадельнях или казармах. Нары понаделаны рядами, а местами еще в два этажа! Голые доски, полутемная нетопленая изба, смрадная, нестерпимо пахучая атмосфера – вот общие признаки посадских «щелей». Не стану описывать подробнее отвратительную обстановку кронштадтской нищеты, потому что в ней нет ничего исключительного и особенного: такую же обстановку и бедность, и если бедность, то непременно антисанитарную грязь можно встретить везде в России, и везде, где нищета, там и грязь, где бедность, там и вонь; парадной, нарядной нищеты, как, например, в Германии, у нас нет…
Только что пробило 5 часов утра, как из убогих посадских избушек начали выскакивать фигуры, мужские и женские, в каких-то «маскарадных» костюмах: кто в кацавейке и больших калошах, кто в зипуне с торчащими клоками ваты; на голове остов цилиндра, соломенная в дырах шляпа и т. п. Все торопятся, точно по делу бегут…
– Не опоздать бы, не ушел бы…
Только это у всех и на уме, потому что если «опоздать» или «он» ушел – день голодовки и ночлега под открытым небом.
Конечно, этот «он» – отец Иоанн, «отец» и единственный начальник всей кронштадтской подзаборной нищеты… Без него половина «посадских», вероятно, давно извелась бы от холода и голода.
– Куда же вы так торопитесь? – спросил я одного оборванца, когда первый раз познакомился с «золотой ротой Кронштадта».
– В «строй», – отвечал он.
Я пошел за бежавшими…
На дворе было холодно и совсем еще темно; фонарей на этих улицах в Кронштадте нет, так что ходить приходится почти ощупью. Мы прошли несколько улиц, пока на горизонте обрисовался купол Андреевского собора.
– Где «строиться?» – спрашивали золоторотцы друг друга.
– У батюшки, у батюшки…
Когда я подошел к дому, в котором живет отец Иоанн, там собралось уже несколько сот оборванцев и народ продолжал стекаться со всех сторон.
– Стройся, стройся, – слышались голоса.
Сотни собравшейся голи начали становиться вдоль забора, начиная от дома отца Иоанна по направлению к «Дому Трудолюбия». На одной стороне становились мужчины, на противоположной панели женщины. Меньше чем в 5 минут образовалась длинная лента из человеческих фигур, примерно в полверсты. Бедняки стояли в три колонны, по три человека в ряд, так что занимали всю панель, женщин было гораздо меньше мужчин.
Все ждали…
Долго я ходил по линии «строя», всматриваясь в эти изнуренные лица, исхудалые, оборванные фигуры… На лице каждого можно было прочесть целую житейскую драму, если не трагедию… Были тут молодые, почти юноши и седые старцы, попадались на костылях, убогие, с трясущимися головами, с обезображенными лицами…
Да, такую коллекцию «сирых» трудно подобрать; если каждый из них в отдельности не способен тронуть сердце зрителя, то коллекция этих «детей отца Иоанна» может заставить дрогнуть самое черствое сердце! Пусть большая часть их пьяницы или люди порочные, пусть сами они виноваты в своем положении, но ведь это люди… люди страдавшие и не имеющие в перспективе ничего кроме страданий! Вот бывший студент медицинской академии, вот надворный советник, поручик, бывший купец-миллионер, вот родовой дворянин громкой фамилии… Мне показали старика, который двадцать лет питается одним хлебом и водой, у него высохла правая рука, он лишился возможности работать и 20 лет живет подаянием отца Иоанна. Двадцать лет не имеет собственного угла, не видал тарелки супа и если бы не отец Иоанн, то давно умер бы с голоду.
Я просил показать этого старика. Несчастный стоял в хвосте «строя» в первой колонне.
– Любоваться пришли, – ядовито обратился он ко мне, когда я остановился против него…
Вид старика был суров; нависшие седые брови почти закрывали глаза, а всклокоченная седая борода спускалась на грудь; глубокие морщины и желтый отлив кожи красноречивее слов свидетельствовали о пережитом старцем… Его высокая фигура как-то сгорбилась, а правая рука висела без движения…
– Возьми, старец, – протянул я ему руку с кредитным билетом.
– Оставьте себе или дайте вот им, – отвечал он, мотнув головой в сторону «строя», – я не нищий, моя правая рука высохла, а левая не принимала еще милостыни…
– Да ведь ты же 20 лет живешь подаянием!
– Ложь! 20 лет меня питает отец Иоанн, но милостыни я не просил и подаяния не принимал.
– Так если ты берешь от отца Иоанна, почему же не хочешь взять от меня?
– Я не знаю тебя и знать не хочу, а отец Иоанн – мой отец, он не свое дает, а Божие, дает то, что он получает для нас от Бога. Ты даешь мне двугривенный как нищему, а отец Иоанн дает мне как родному, как другу дает любя… Он тысячу рублей дал бы, если бы нас меньше было, для него деньги не имеют той цены, как вам, господин…
Еще не было 6 часов, когда из калитки хорошо знакомого «золоторотцам» дома вышел «батюшка»… Толпа заколыхалась, но все остались на местах, обнажив только головы.