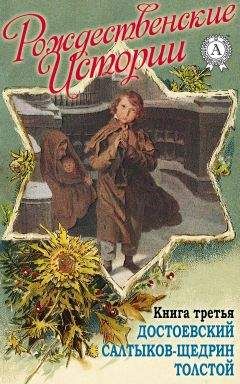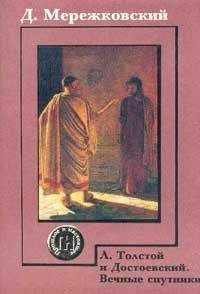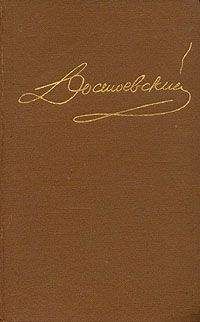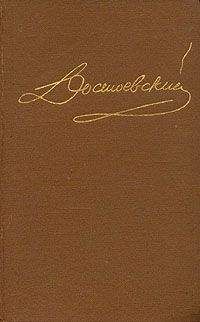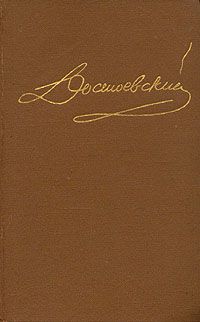Толстой и Достоевский. Братья по совести (СИ) - Ремизов Виталий Борисович

Х. Д. Алчевская
«Глубокоуважаемый Федор Михайлович!
Я так была счастлива Вашим письмом, что несколько дней сряду никакие житейские неприятности, которых у каждого довольно, как-то не действовали на меня и были бессильны замутить эту радость. Затем наступило грустное раздумье на тему, что я не стою Вашего письма: в жизни моей я никогда ничему не училась, никогда не работала над собой, всегда отдавалась тому только, что мне нравилось, что влекло меня к себе в данную минуту; за что же это хорошее, почти дружеское письмо, за что Вы говорите со мною, как с человеком вполне образованным, разумным и серьезным? […]
В этот же вечер (Х. Д. Алчевская организовывала вечера художественного чтения, в которых принимали участие любители русской словесности. — В. Р.) я очень была огорчена тем, что один наш знакомый офицер (превосходно читающий за Вронского в «Анне Карениной») испортил своим слишком громким, мерным, военным голосом Ваш рассказ «Столетняя», и он не произвел должного впечатления. Я никак не могла простить себе, что не читала сама, а поручила ему читать, думая, не прочтет ли он лучше меня; между тем, когда читала я («Мальчик на елке у Христа» и «Мужик Марей»), многие не могли слушать без слез, а этот рассказ нашли гораздо слабее, тогда как, по-моему, он очень тепел и симпатичен. Позвольте разъяснить Вам, что значит «читал за Вронского». Видите ли: на наших литературных вечерах читается также каждый раз по получении «Анна Каренина», и читается так: я читаю главы, в которых говорится об Анне Карениной, дядя мой (превосходный чтец) — о Левине и Облонском, этот офицер — о Вронском, и одна барышня — о Кити. Чтение выходит чрезвычайно оживленное. Каждый из нас приготовляется к этому чтению; я так обыкновенно знаю наизусть свои главы. Как мне интересно было бы знать, какого Вы мнения об этом романе, но не смею спрашивать, так как отвечать на этот вопрос коротко невозможно. Остается надеяться, не скажете ли Вы чего-нибудь об этом в Вашем «Дневнике». Роман этот настолько всех занимает, что Вам следовало бы высказаться на его счет, тем более что, читая «разборы» его, так и хочется сказать: «но как же критика хавроньей не назвать» [62] (курсив Х. Д. Алчевской. — В. Р.). Как странно, что в наш век скептицизма, анализа и разрушения нет ни одного порядочного критика, это просто какая-то насмешка судьбы! Не одна критика, впрочем, богата «хавроньями», ими богато и общество: «почему, видите ли, Толстой не описывает студентов, не описывает народ?!». Точно можно художнику, подлаживаясь под ходячие требования, писать по заказу, точно Айвазовского, положим, можно упрекнуть за то, что он рисует море и небо, а не мужика и студента, и как сметь требовать от писателя романа по известному шаблону и отрицать его значение, если он ему не соответствует. Ввиду всех этих разноречий, почему бы Вам не высказаться? Положим, «критический взгляд на роман» не подойдет, кажется, ни под одну рубрику Вашего «Дневника». Но ведь Вы сами же их настроили, стало быть, можете и расстроить. Вообще я не знаю, зачем Вам стеснять себя какими бы то ни было рамками; между тем Вы говорите: «Места займет много, будет не разнообразно, мало статей». Что ж за беда!» (ДВ С. Т. 2. С. 329–331).
«Он (Достоевский. — В. Р.) заговорил о наших литературных вечерах, о которых я писала ему. Он находит, что это явление весьма приятное и в Петербурге нет ничего подобного. Коснулись «Анны Карениной».
«Знаете ли, — сказала я, — человек, бранящий «Анну Каренину», кажется мне как будто моим личным врагом».
— «В таком случае я замолкаю!» — отвечал Достоевский и, как я ни упрашивала, ни за что не захотел высказать своего взгляда. Мне было ужасно досадно на себя» (ДВ С. Т. 2. С. 336).
25 мая 1876 г. Петербург
«Сегодня я позволила себе быть у Достоевского. Решительно убеждаюсь, что я для него не человек, а материал. Он все время заставлял меня говорить, поощряя беспрестанно замечаниями: «Ах, как вы хорошо, образно рассказываете! Просто слушал бы, слушал без конца!» или: «Трудно решить, что вы лучше — пишете или говорите? И пишете прекрасно, и говорите прекрасно!»
Рассказала я ему историю преступления К., говорила о своей жизни в Харькове, о харьковском обществе вообще и его отношениях ко мне. Он слушал все с таким интересом, с таким вниманием, что поневоле говорилось очень много. На столе лежал «Русский вестник».
— Скажите же мне, Бога ради, что вы думаете об «Анне Карениной», — попытала я вновь счастья.
— Ей-богу, не хочется говорить, — отвечал Достоевский. — Все лица до того глупы, пошлы и мелочны, что положительно не понимаешь, как смеет граф Толстой останавливать на них наше внимание. У нас столько живых насущных вопросов, грозно вопиющих, что от них зависит, быть или не быть, и вдруг мы будем отнимать время на то, как офицер Вронский влюбился в модную даму и что из этого вышло. И так приходится задыхаться от этого салонного воздуха, и так натыкаешься беспрестанно на пошлость и бездарность, а тут берешь роман лучшего русского романиста и наталкиваешься на то же!
— Не должен же романист описывать людей, каких нет, он должен брать жизнь и показывать ее с художественной правдивостью, как она есть, и ваше дело выводить из всего этого résumé, — возразила я.
— Совсем не то вы говорите, — продолжал Достоевский с обычной нетерпимостью в споре, которая выходит как-то совсем необидною; чувствуется, что это результат не самомнения, а искренней уверенности в изложенной мысли, — совсем не то: неужели же наша жизнь только и представляет Вронских и Карениных, это просто не стоило бы жить.
— А Левин, — возразила я вновь, — разве не волнуют его самые животрепещущие вопросы? Разве не симпатичен он?
— Левин? По-моему, он и Кити глупее всех в романе. Это какой-то самодур, ровно ничего не сделавший в жизни, а та просто дура. Хорош парень! За пять минут до свадьбы едет отказываться от невесты, не имея к тому ровно никаких поводов. Воля ваша, а это даже ненатурально: сомнения возможны, но чтобы человек попер к невесте с этим и сомнениями, — невозможно! Одну сцену я признаю вполне художественною и правдивою — это смерть Анны. Я говорю «смерть», так как считаю, что она уже умерла, и не понимаю, к чему это продолжение (курсив в тексте Алчевской. — В. Р.) романа. Этой сцены я и коснусь только в своем «Дневнике писателя», и расхвалю ее, а браниться нельзя, хоть и хотелось бы, — сам романист — некрасиво!» (ДВ С. Т. 2. С. 338–339).
Глава двадцать первая. «…НЕОБЫКНОВЕННОЙ ВЫСОТЫ ХУДОЖНИК»
Ф. М. Достоевский о Льве Толстом и его романе «Анна Каренина»

Н. С. Лесков
Сказанное по поводу «негодяя Стивы» и «чистого сердцем Левина» так хорошо, — чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен, — иначе он не разобрал бы этого так. Это анализ умной души, а не головы.