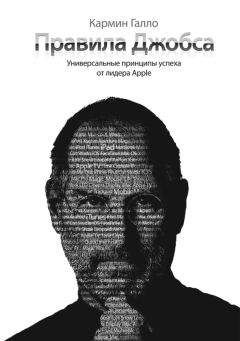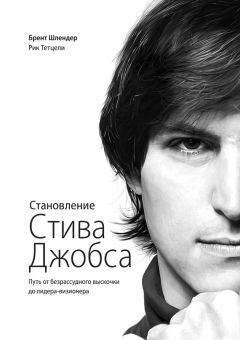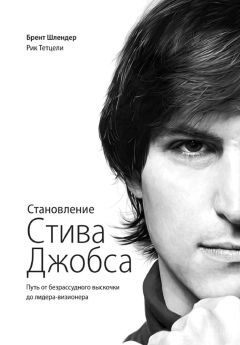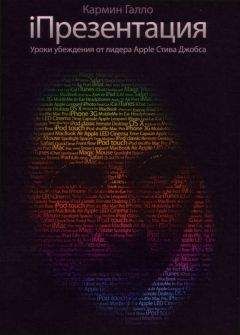Евгений Евтушенко - Волчий паспорт
Эта беременность была ее второй. Во время первой она поскользнулась на ровном месте и потеряла ребенка. А ей так хотелось дочку, Дашеньку. Поэтому она боялась за Женю.
В больничном окне, освобожденная, просветленная, показывая мне Женю, она была похожа на Богоматерь в киоте из весенних сосулек, сама продышавшая свой лик сквозь иней. Такой я ее снял в «Похоронах Сталина» — правда, уже с другим нашим сынишкой, Митей. Если Женя, как его отец, неуема, непоседа, драчун, дамский угодник, то Митя — это ее ласко-венький, нежненький, умненько-хитренький, упряменький, лени вен ький, кусл и веньки й щуренок-русаленок.
Вначале с Женей были неприятности — в роддоме его для перестраховки настолько перешпиговали инъекциями антибиотиков, что нежные стенки детских кишочков не выдержали, начали отторгать пищу. Он стал хиреть на глазах. Я потерял всякую надежду. В первый раз за всю свою жизнь я пошел в церковь не как в красивое место, где красивая музыка, а просить заступы за мое дитя у святого Пантелеймона-исцелителя, держащего в тонких пальцах ложечку и ларец с лекарствами. После бабушки, у которой из кармана черной плюшовки попискивал крошечный котенок, я приложился к стеклу иконы, теплому от поцелуев, попав губами во влажный след старческих губ с маленьким туманным ореолом запотел ости, оставшимся от дыхания. Правда, святому Пантелеймону помог отнюдь не святой, но от этого еще более очаровательный доктор Станислав Долецкий и великая массажистка — Лидия Власова, лепившая мышцы на хилых подламывающихся ножонках нашего сынишки, и чудо свершилось — Женя выжил.
Маша, исключительно из щучьей хитрости, чтобы не сожрали другие, большие щуки, некоторое время была одним из комсомольских идеологов медфака — и, может быть, в этом тоже причина ее ненависти к политике? От религии Маша была далека и, водя экскурсии в Кижах и других ставших музеями северных церквах, в действующие ходить побаивалась — за это исключали из комсомола, из университета.
Я был религиозным лишь в той степени, как, видимо, неблагодарное большинство человечества, — у Бога попрошайки-чал, а сказать «спасибо» забывал. Но я был первым, кто ввел Машу за руку в действующую церковь. Это была церковь Всех Скорбящих на Калитниковском кладбище, рядом с Птичьим рынком. Мы приехали туда с Машей, когда открылась страшная тайна этого кладбища. Даже старожилы-москвичи не догадывались, что под свежими могилами прячется старая общая могила десятков тысяч людей, расстрелянных в «варфоломеевские ночи» тридцатых годов. Чудом уцелели лишь несколько старушек, которые тогда были девочками. Почти пятьдесят лет они держали язык за зубами и вдруг заговорили.
Тогда, в тридцатых, с детским, все замечающим любопытством они решили подсмотреть, что делают люди, приезжающие в парк в закрытых фургонах вечером. Притаившись в кустах, девочки увидели страшную картину: фургон подъезжал, задняя стенка откидывалась, и наша отечественная зондеркоманда в длинных фартуках и резиновых сапогах и перчатках сталкивала специальными крюками один за другим в овраг голые трупы. Пулевые дырки в черепах были хозяйственно заткнуты тряпицами. Многие трупы были уже не первой свежести, со вздувшимися животами, и, падая, лопались с характерным ужасающим звуком.
Напротив кладбища был мясокомбинат имени Микояна, над чьим зданием по ночам сверкал наблюдающий за своими жертвами, усыпанный электрическими лампочками портрет Сталина, а мясокомбинатские собаки подходили к оврагу и, синие от лунного света, выли над трупами. Когда умер Сталин, Берия распорядился немедленно засыпать этот овраг и хоронить умерших своей смертью поверх убиенных, чтобы новыми трупами прикрыть старые.
Получилось нечто кафкианское — кладбище-сандвич.
Мы вышли из этого кладбища, как из неумирающего ада нашей памяти, и вдруг Маша остановила меня, показывая глазами на церковь Всех Скорбящих. Под тихое пение под сводами мы вошли в церковную, звенящую голосами чистоту, как будто язычники в воды древнего Днепра.
Священник крестил новообращенных.
Ребенок был только один — ему не исполнилось, наверное, и годика, и он спал крепким сном, сладко посапывая розовой редиской носа. Его крестили вместе с его папой — крупным черноусым красавцем со значком афганских ветеранов. Парень снял только левый ботинок, потому что правый был надет на протез. Мама была торговообщепитовская пышечка, но по ее круглому ватрушечному личику, казалось созданному для смеху-шечек-посмехушечек, медленно, но тяжело катились редкие, зато крупные, как жемчужины с иконных окладов, слезы.
Крестились неуклюжие подростки, смущавшиеся оттого, что на них смотрят и видят их прыщики.
Крестилась пара в возрасте лет семидесяти, волнуясь, переглядываясь как бы вспотевшими от переживаний глазами.
Крестилась смазавшая краску с лица, но явно собравшаяся после церкви прямо на работу в какой-нибудь валютный бар разноцветноволосая красотка в черных чулках с вышитыми на них серебряными розами и настолько минимальной мини, что из-под нее чуть белел кружевной треугольничек трусиков.
Крестился лилипут со сморщенным, как печеное яблоко, личиком, а лилипутка его возраста — может быть, его уже крещеная жена — промокала влажные кукольные глаза батистовым платочком, стоя рядом со мной и Машей в небольшой, трогательно целомудренной толпе, наблюдающей крещение.
И благовонный дым раскачиваемого кадила над головами крестившихся, и невыветриваемый из памяти трупный запах стольких невинно убиенных, и тонкий аромат лепестков шипов· ника, взошедшего на крови, и прерывистое дыхание новообращенных христиан — все это и было воздухом родины, которая дается один раз в жизни и не заменяется ничем.
— Я хочу окрестить наших детей, принять крещение сама и обвенчаться с тобой, — прошептала Маша.
Когда я преподавал весной 1991 года русскую поэзию в Пенсильванском университете, в местной православной церкви, заложенной в конце прошлого века моряками знаменитого крейсера «Варяг», построенного на филадельфийской верфи, состоялся мой первый церковный брак.
Над нашими головами качались венцы в затекших руках друзей под благословляющий голос бельгийца — отца Марка, выучившего русский язык до почти санкт-петербургского, но еще дореволюционного произношения.
Белая кружевная накидка на голове невесты-жены была похожа на прилетевший ее благословить в Америку кусочек озерного карельского тумана, а по полу церкви ползали наши дети, неукротимо жужжа заводными автомобильчиками.
Вскоре мы возвратились в Москву и не предполагали всего того, что в этом году еще случится с нашей родиной и нами и что нам еще вспомнятся строки из песни о крейсере «Варяг»:
Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!
После бессонной переделкинской ночи с 18 на 19 августа когда мне не давал спать почти волчьим воем умирающий от безнадежной любви Бим и сам я безмолвно подвывал ему, мучительно и нежно перебирая всю мою жизнь, — мне еле-еле уда-лось заснуть лишь под утро.
Но спать мне пришлось недолго.
Около девяти утра меня разбудил телефонный звонок и хриплый голос моей сестры Лели:
— Мишу сняли.
— Мишу Каца? — спросил я о нашем общем добром гении — инженере из Донецка, который хоть не вышел росточком, зато удался душой и принадлежал к вымирающему племени людей, которые звонят и сами спрашивают: «Тебе не надо чем-нибудь помочь?»
Так за что же могли снять Мишу, который в праздничные дни гордо надевал маленькое металлическое знамя с надписью «Гвардия», и был таким сентиментальным интернационалистом, как будто родился не евреем, не русским, а еврусским и, может быть, оказался единственным на свете экземпляром случайно удавшегося коммунистического человека? Так за что же могли снять Мишу, кто, как Дед Мороз, у которого Новый год был летом, посылал нам с донецкими проводницами то ведро руби-ново мерцающих вишен, то корзину огромных, как торпеды, баклажан, то, наконец, соленые арбузы, секрет которых Миша хранил зарытым, как под одиноким кустиком, где-то под одним из последних черненьких с подседью кудеречков на окраине своей лысины, добро светящей человечеству, как маленький маяк участливости?
— Да нет, не Мишу Каца, — прервала меня Леля. — Горбачена сняли. Включи телевизор.
Сколько раз умирал Брежнев?
Я люблю свою сестру Лелю, хотя не дай Бог попасть под ее горячую руку, а особенно под горячий язык, ибо Барков, Лимонов, Ерофеев (Виктор) и другие выдающиеся лингвисты — просто-напросто жалкие приготовишки по сравнению с ослепительными перлами изысканных неприличий в сокровищнице памяти моей сестры.
Леля — великая недооцененная актриса, хотя в какой-то степени все актрисы — недооцененные. Когда я увидел ее фотопробу на Анну Иоанновну, у меня аж мурашки поползли по коже — до того императрица была устрашающе величава, как будто обливала все человечество холодной водой своего взгляда на морозе в ледяном доме короткого, но жестокого царства. Леля блестяще исполняла в концертах реквием по безвозвратно уходящей под воду деревенской Атлантиде одного сибирского писателя, конечно не предполагая того, что впоследствии вместе с будущими заговорщиками он поставит свою подпись под призывом спасти империю, которая когда-то и потопила эту Атлантиду.