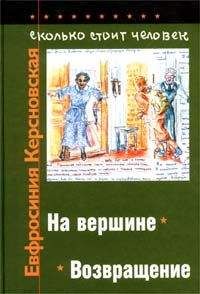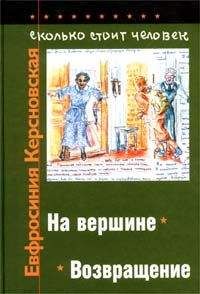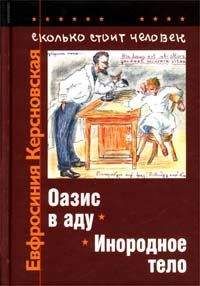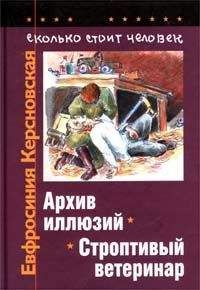Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах.
Большое удобство — это близость к шахте. Дом был на самом Нулевом пикете, то есть до шахты рукой подать, если идти напрямик, через занесенные снегом балки, образующие некое подобие грибницы, так называемые шанхайчики. Приходилось перешагивать через антенны радио и зорко смотреть, чтобы не угодить ногой в чью-либо трубу.
Было у моей «квартиры» и неудобство: соседи-железнодорожники пьянствовали еще больше, чем шахтеры. Мои визави через коридор постоянно дрались, а те, что над головой, постоянно плясали; ну а вопли, пение и матюги неслись со всех сторон, как трассирующие пули.
К счастью, обладая здоровыми нервами, я могла полностью отключаться, как бы запирая на ключик свои уши, и абсолютно не слышать того, чего не хотела слушать.
От одиночества я стала… нет, не алкоголиком, а художником
Как ни утомительна работа в шахте, как ни хочется после нее отдохнуть, а все же ограничиться лишь работой и сном невозможно. Ведь не только тело нуждается в пище и отдыхе. А душа этот отдых и пищу получает в общении с людьми чем-то тебе близкими.
Такой душевный отдых я находила в семье бывшей начальницы ЦБЛ Веры Ивановны Грязневой и у Евстафьевых.
По выходным я ходила к Вере Ивановне. Меня влекло в эту вполне нормальную семью, где было трое славных ребятишек, которые тоже всегда радовались моему приходу. Приятно было побеседовать, сидя за круглым столом, уставленным вазонами цветов. С ее мужем Евгением Александровичем было о чем поговорить. И вообще, атмосфера этой семьи действовала успокаивающе. Как теперь принято говорить, «способствовала разрядке напряженности».
У Евстафьевых я бывала почти ежедневно: идя на работу или возвращаясь обратно, я проходила мимо их жилья (слово «квартира» как-то не подходило к их весьма убогому жилищу в мрачном доме-общежитии, бывшем лагерном бараке). Я их очень любила, этих старичков! Каждый был в своем роде уникумом. Заходила я и в медицинское общежитие к своим медицинским друзьям-однополчанам.
Но все они, одни за другими, достигали пенсионного возраста. А выйдя на пенсию, только безумец мог бы остаться в таком нечеловеческом месте жительства!
Так и получилось, что сначала уехала Марго, затем Мира. Потом уехали в Ленинград Поповы-Грязневы и под конец — Евстафьевы.
Итак, я осталась одна. Вот тогда-то я и стала рисовать.
Из Москвы Мира Александровна прислала мне масляные краски. И с этого дня, как только представлялась хоть малейшая возможность, я налаживала свое «ателье»: садилась на топчан, клала на колени куртку, на куртку — фанеру, раскладывала вокруг краски, скипидар, масло, керосин, тряпки, кисти… Что и говорить: комфорта нет, но вдохновение восполняет его отсутствие. Цель достигнута: душа отдыхает и набирается сил. В мыслях я бродила по горам Кавказа или по залам музеев — Третьяковки или Русского художественного.
Я была профаном в этом деле. Посоветоваться было не с кем. До всего надо было доходить «на ощупь». Тем больше радости получала я от рисунков, хоть и были они далеко не шедевры.
Второе мое «прибежище» — библиотека; третье — природа. Но в Норильске у природы очень уж небольшое поле деятельности и еще более ограничен срок, в течение которого возможен контакт с этой самой природой, без слишком большой опасности для жизни.
Гаращенко… и церковь в Норильске
А в остальном все шло по-старому: напряженно, но монотонно. Работала я все так же неугомонно, вкладывая в работу весь свой опыт, все умение и желание «сегодня сделать лучше, чем вчера». Хотя пора было убедиться, что подобного рода усердие в работе ничего, кроме раздражения, у окружающих не вызывает. Быть белой вороной — незавидная доля.
На мою беду, начальником участка был все тот же отвратительный тип — Пищик.
Правда, помощник начальника Гаращенко был очень хорошим человеком, и когда я работала в ночную смену, в смену помощника, то я буквально отдыхала душой: спокойный, никогда не теряющий самообладания, знающий свое дело и умеющий ценить это знание у других… С таким начальником можно было работать. Поэтому меня привело в недоумение то, как и почему вынужден он был покинуть шахту!
Его судьба должна была бы меня насторожить, не будь я глуха, как тетерев на току.
Гаpащенко рано осиротел, но отца и мать заменил ему старший брат. Их связывала взаимная любовь, которая у младшего граничила с обожанием. Он твердо верил, что лучше, умнее и справедливее его братани нет на свете. Брат был ярым коммунистом, а он сам — не менее ярым комсомольцем. О, как он гордился братом! Как он мечтал быть на него похожим! И каким ударом была для него та роковая ночь в 1937 году, когда их обоих арестовали как врагов народа и той самой советской власти, служению которой он надеялся посвятить всю свою жизнь!
Брат был расстрелян, а он сам в течение десяти лет проходил все испытания «исправительного» лагеря.
Удар обрушился на юношу, почти мальчика, и что-то в нем надломилось: ярый, воинствующий безбожник стал вдумчивым, глубоко религиозным человеком. Образования он не успел получить, но ему посчастливилось в неволе быть среди образованных, культурных людей — лучших представителей интеллигенции, и они научили его думать.
Выйдя на волю, он много читал, главным образом религиозно-философскую литературу. Своей твердой верой в то, что христианская любовь и всепрощение — единственная надежда человечества, он меня удивлял!
Впрочем, своих взглядов он никому не навязывал.
Каково же было мое удивление, когда однажды он пришел ко мне, принес книги Льва Толстого, которые брал у меня, и сказал, что уезжает. С чего бы это вдруг? Ведь у него нигде и никого нет. Нет и другой профессии. Он шахтер, и притом хороший. На шахте его ценят. Так в чем же дело?
А «дело» оказалось вот в чем.
Умер Сталин. Убрали Берию, Абакумова и прочих палачей. Ликвидировали большую часть лагерей, выпустили на волю многих невинно пострадавших невольников — жертв сталинского произвола. Злой туман, в котором так долго задыхалась вся страна — многострадальная родина — рассеялся, и, как в сказке братьев Гримм, лопались один за другим обручи, так долго сковывающие изнывающую под гнетом душу. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть свежего ветерка — и остатки тумана окончательно сгинут, как тьма — с восходом солнца.
И задумал Гаращенко сделать то, на что наша Конституция дает нам право: устроить храм Божий. Нет, не церковь и не часовенку даже, а просто маленькую молельню, где бы верующие могли собраться, помолиться, совершить христианские обряды. В Норильске было много, очень много старушек, приехавших к своим сыновьям, дочерям, отбывшим срок заключения и не получившим право вернуться на родную сторону. Эти старушки сильно тосковали без привычного для них богослужения. Домик — небольшой балок — был подготовлен. Нашелся священник, готовый в свободное от работы время отправлять церковную службу. И средства, главным образом свои сбережения, предоставил Гаращенко для этого, как думалось ему, доброго дела.