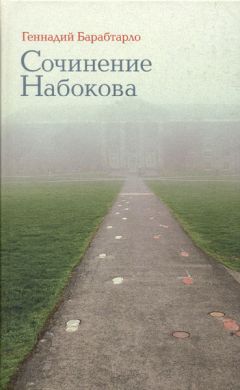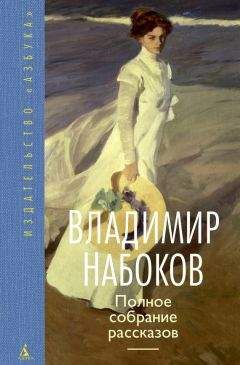Геннадий Барабтарло - Сочинение Набокова
Брайан Макгэйл помещает Набокова на грани между «модернистическим романом», для коего характерна «эпистемологическая доминанта», и «пост-модернистическим романом», в котором он наблюдает доминанту онтологическую[63]. Это шаткое искусственное построение может быть в каком-то смысле оправдано тем безспорным разеуждением, что в художественной прозе Набокова, и особенно в английских романах, коренная проблема несходства взглядов повествователя и предполагаемого автора (т. е. его «представителя») бывает осложнена двойным сюжетным дном: по первом прочтении нельзя сказать с уверенностью, кто повествует повесть, а кто ее сочиняет (сочиняя заодно и повествователя); какое повествование первично, какое вторично; что — собственно повесть, а что повесть о повести. Любопытно, что Макгэйл, как и большинство других пишущих на эти темы, совсем упускает из виду «Пнина», где мы видим один из самых интересных и самых явных примеров поступательного нагнетания и одновременно саморазрушения повествования от первого лица[64]. Читатель, добровольно попавший в страну чудес Набокова, оказывается в положении китайца, не могущего решить, ему ли снится бабочка, он ли ей, или оба они снятся кому-то третьему, — и тут эта эпистемологическая неизвестность разрешается посредством стилистической симуляции действительности, т. е. литературным искусством Набокова, которое должно постепенно, тонкими приемами обнаружить свою искусственность.
4.Если в полицейском романе кардинальный вопрос «кто это сделал?» значит «кто совершил преступление?», то в романе Набокова он имеет совсем другой смысл — «кто это написал?» Кто стоит за повествованием «Истинной жизни Севастьяна Найта»? Кто что написал? и о ком? и кто написал собственно всю книгу? Добравшись до самого ее конца, до последней фразы, читатель оказывается перед странным и трудным выбором: «Я — Севастьян, или Севастьян — это я, или может быть мы оба кто-то другой, кого не знает ни он, ни я».
В «Бледном огне» этого рода структурная загадка породила целую отрасль специальных изследований. С тех пор как Мэри Маккарти написала в 1962 году, т. е. по горячему следу, свое знаменитое эссе о романе под названием «Гром среди ясного неба», появилось по крайней мере пять разных теоретических предположений относительно повествовательного фокуса этой книги: (1) что все ее четыре части — предисловие, поэма, комментарии к поэме, и указатель к ней — написаны профессором Кинботом, подлинное имя которого, вероятно, Боткин; (2) что все это сочинил поэт Джон Шейд; (3) что составные части книги написаны разными перьями и представляют собою род «пузеля», складной картины из зубчатых кусочков, где выступы повествования Шейда (поэма и указатель) входят (или не входят) в выемки частей, принадлежащих Кинботу (предисловие и комментарии), — и наоборот; (4) что вопрос о действующем лице повествователя двусмыслен в принципе, и что двусмысленность эта не нуждается в разрешении, да и не может быть разрешена, ибо она лежит в основании повествовательного сюжета книги; наконец, (5) что в последнем счете все повествование принадлежит духу утопленницы Хэйзель и, позднее, духу ее будто бы по ошибке убитого отца Джона Шейда. (Не привожу здесь имен даже главных сторонников каждой из этих теорий, скажу только что последняя принадлежит Брайану Бойду, автору лучших книг о Набокове).
«Истинная жизнь Севастьяна Найта» — первый и самый слабый из английских романов Набокова; он потом писал, что находит в нем «невыносимые недостатки». Какие именно? В письме к Вильсону он упоминает «множество неловких выражений и словесных ужимок, характерных для иностранца», но нельзя исключить и того, что он находил всю композицию книги громоздкой.
На поверхности дело обстоит так: тонкий человек, но не уверенный в своих способностях биограф В.[65] пишет жизнеописание блестящего писателя, но неуверенного в себе человека, своего сводного (точнее единокровного) брата Севастьяна Найта. Но по мере того, как книга перечитывается по восходящей дуге, открываются один за другим новые возможности ее повествовательного устройства. Вот они, в этой восходящей последовательности:
1. В. описывает жизнь своего покойного сводного брата.
2. Дух Севастьяна водит В-а по фантастическим мирам сочинений Найта, подобно тому, как дух Виргилия водит повествователя поэмы Данта.
3. В. сочинил своего сводного брата.
4. И сам В., и все его сочинение — плод воображения Севастьяна.
5. И В., и Севастьян выдуманы «третьим лицом», хотя неизвестно, за кем последнее слово.
Метод В. состоит в попятном движении к отправной точке своего биографического изследования — к смерти Севастьяна. Учитывая это обстоятельство, мы при повторном чтении начинаем понимать, что В. составляет свою повесть задним числом, из готовых кусков, которые подозрительно близко напоминают некоторые сцены из книг Найта. Особенно это делается заметно в его последнем романе, где Найт описывает «фантастическое повторение некоторых положений», в которых оказывается после его смерти как бы ведомый им сводный брат и биограф, причем случается это в том хронологичеком порядке, в каком эти книги сочинялись. Дело осложняется и тем еще, что мы знаем о содержании книг Найта только из подробных изложений В. Так повторение вымышленных положений в ходе изследования В-ом «истинной жизни» Найта приводит к появлению взаимоисключающих возможностей 3 и 4. Пятая как будто разрешает противоречие, перенося его узел в иной план, где «некто другой» может быть с осторожностью отождествлен с «человекообразным божеством, роль которого играет сам автор» — по известной формуле Набокова, применившего ее в своем следующем романе «Под знаком незаконнорожденных».
5.Метафорам нельзя верить на слово. «Писатель» — род синекдохи; «творчество» говорится для красного словца. Простая надпись на могильном камне Набокова, ecrivain, выглядит, может быть, скромно, но каждому ясно, что слово это дорогостоящее. Глагол «писать» и отдаленно не передает смысла занятий автора; «творить» — до нелепости преувеличивает его. Строго говоря, творит один Творец; пишет — писец. Автор же вымыслов располагается несоизмеримо и существенно ниже Первого и в то же время значительно выше последнего: он сочиняет. В греческих печатных литургических книгах «Пиитис» (Поэтес по-старому) с прописной «ни» означает Творца миров, со строчной — творца стихов, стихотворца. До XX века «творчество» в этом метафорическом смысле не имело широкого хождения. У Пушкина, например, оно встречается крайне редко — всего три раза, и исключительно в значении воображенья, fantasie, как он сам и объясняет, противополагая его «искуству» [sic], т. е. голой технике[66]. В своих предисловиях, лекциях, интервью Набоков постоянно приглашал обращать внимание на искусство композиции, т. е. на сочинение и со-отношение частей, на сплетение тем, на приемы перехода от темы к теме, на тематический и архитектурный чертеж всей вещи. Никто из его критиков не настаивал на том, что это и есть главное достижение искусства его прозы, а между тем именно оно отличает его от других мастеров и ставит на технически непревзойденную высоту. В., полагая, что в своей последней книге искусство Севастьяна «достигает совершенства», пишет, что «дело тут не в отдельных частях, но в их комбинациях». Сходство, даже может быть и сродство художественных словесных композиций с музыкальными и шахматными настолько удачно, что Набоков сделал его главной темой своего третьего романа, «Защита Лужина». Перечитыватель тем самым и изследователь, и в известном смысле он не просто «читает» книгу, а если и читает, то так читают партитуру или запись шахматной партии: он разыгрывает ее, исполняет сочинение автора, пытаясь в движениях и ходах верно угадать его замысел.