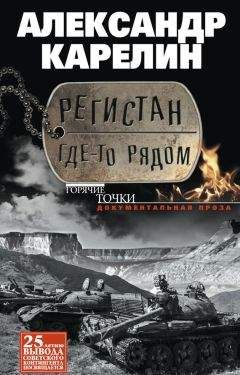Владимир Стасов - Училище правоведения сорок лет тому назад
VI
Тот год, когда Серов вышел из училища, 1840-й год, был для меня, во многих отношениях, годом перелома и началом новой эры. Во-первых, я расставался с человеком для меня самым близким, с которым привык видеться и жить вместе, чувством и мыслями, всякий день; во-вторых, я перешел в этом году из низшего курса в высший и тем самым становился, по казенному училищному счислению и по классным занятиям, — юношей; в-третьих, с этого года для меня начался новый, более прежнего сильный прилив художественной жизни и в училище, и вне его.
Отсутствие Серова в моей ежедневной жизни было для меня ужасной потерей; Серов говорил, что для него тоже слишком было чувствительно мое отсутствие, несмотря на то, что он вышел на полную свободу и что у него началась совершенно новая жизнь. Чтоб поправить нашу утрату, я предложил Серову — переписываться. Он, конечно, согласился, и в течение тех трех лет, что я оставался еще в училище, т. е. с осени 1840 по весну 1843 года, я получил от Серова около 50 писем, сам написал ему, наверное, столько же, если не больше, и переписка эта, сделавшаяся для нас привычкою, продолжалась и впоследствии, даже после моего выхода из училища, особливо потому, что с 1846 года Серов был переведен на службу в Симферополь, а потом во Псков. С 1840 по 1843 год я посылал ему свои письма обыкновенно по воскресеньям, через одного товарища по классу, Жулковского, который всякое воскресенье бывал в гостях у Серова, а вечером, возвращаясь в училище, приносил мне конверт с длинным письмом Серова, писанным в несколько присестов, постепенно, в течение всей недели, точно так же как и я свое послание писал по кускам, постепенно, в продолжение всей недели. Писание такого письма, приготовление к нему, наполняли, наверное, большую долю всего моего училищного времени; только одна меньшая половина оставалась в моем распоряжении для классов, музыки и всего более для чтения. И это было вовсе не худо. Училище ничего не теряло через такое хозяйство и распорядок: чтением и перепиской с Серовым я в самом деле «воспитывался» и «рос», т. е. достигал именно того, чего всего более должно желать училище для своих воспитанников.
Переходя в высший курс, каждый из нас думал, что вот, наконец, мы вступаем в настоящее «святое святых», вот сейчас отдернутся какие-то завесы, вот мы, наконец, увидим тайны науки, великой, широкой, глубоко серьезной. Скоро мы убедились, что ожидания были напрасны. Никаких завес не отдернулось, и мы продолжали слушать то, что прежде слушали. Никаких новых, более широких взглядов не оказалось, продолжалась вся та же узкость и ограниченность, только под другими заглавиями, что-то вроде плохих гостинцев, завернутых в богатые цветные бумажки с кружевом и золотом. Ничего живого, двигающего вперед, одухотворяющего, раздвигающего горизонты мысли. Одна только самая ординарная схоластика, имена, цифры и голые факты — и более ничего. Во-первых, и самое время-то было такое, когда вовсе речи не шло о том, как бы развивать людей и дать расти их интеллектуальным силам, а во-вторых, и наши преподаватели были все такой народ, который если б и захотел, то не знал бы, чему еще нас учить и в чем нас просвещать, кроме того, что стоит в книжках, одобренных самою невежественною, глубоко темною цензурою тогдашних времен. Наш профессор уголовного права, Калмыков, считался тогда в России одним из светил науки права, и училищное начальство считало за особенное для себя счастье, что успело его залучить к себе в училище. И действительно, как было бы и считать иначе? Калмыков был один из молодых студентов Педагогического института, отправленных за границу, по идее Сперанского, за их «блестящие способности и знания», чтобы прослушать там курсы лучших профессоров и возвратиться домой тоже и самим зрелыми профессорами, столпами науки и знания. Не знаю, как другие, но Калмыков возвратился таким же ординарным человеком, каким поехал. Может быть, и те немецкие тогдашние знаменитости права, которых он с благоговением ездил слушать, тоже и сами не далеко ушли от пошлейшего школьного доктринерства, и потому-то он ничуть не удовлетворил наши ожидания. «Да что же это за высшая, глубокая наука, — говорили мы после лекции друг с другом, — когда тут ничего нет, кроме казенщины и ординарщины! Вот-то удивил, торжественным и патетическим голосом выкрикивая с кафедры, что „наказание требуется самою идеею божеской справедливости“ и что ненаказанное преступление — есть оскорбление божеству! О, педант толстокожий! Неужели такую непроходимую чепуху (да еще по Канту, как этот нас уверяет) читают и взаправду в немецких университетах, этих для нас Монбланах и Чимборазах знания и истины, в Германии, этой для нас пучине глубины, премудрости, недосягаемого разума? Неужели там у них ничего лучше нет? Чорт с ним совсем, с этим Калмыковым, — но что делать, давайте долбить его глупости». Другой профессор, некто Палибин, приводил нас в изумление, читая нам под заглавием «Государственное право», прямо статьи из Свода законов, которые мы должны были заучивать слово в слово по его литографированным запискам, перечисляя, без малейшего пропуска, все «департаменты», «отделения» и «столы» министерств, губернских правлений и других мест, и тут же должны были в зубряжку пересчитывать «предметы их ведомства». Спрашивается: какая разница была между таким зубреньем государственного права в «высшем курсе» у Палибина и зубреньем географии в «низшем» у полковника Вранкена, с его дубинными стихами о «произведениях страны»: дегтя, канатов, сахарного тростника, щетины и всего прочего? Ни того, ни другого мы никогда не дозубрили, как ни старались наши высшие и низшие преподаватели. Но, надо заметить, всего более поражал нас тот пафос и энтузиазм, с которым Палибин, пришепетывая, и свистя, и шипя, но тоже вместе и грозно рыча, произносил те пассажи из статей Свода, которые всего более любил. Когда же он громовым голосом провозглашал: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный, которому повиноваться не только за страх, но и за совесть сам бог повелевает!!!», то для последних слов у него был всегда прибережен такой голос и такое выражение, от которого все стекла дрожали в окнах, а мы думали, что мы чуть-чуть не сами евреи, а перед нами чуть-чуть не сам Моисей, сходящий с горы со скрижалями в руках. — Еще один профессор, Шнейдер, был человек великолепный по прекрасной душе, благородству и энергии своей. Его все у нас любили и уважали от всего сердца. Он многим из нас сделал великое добро, отстаивая в совете училищном наши нрава и училищные заслуги, помогая одному перейти из класса в класс, другому — получить, при выпуске, тот или другой чин, наконец, спасая еще более многочисленных из нашей среды от наказаний, а иногда н от исключения из училища. Все его у нас любили от мала до велика, и я думаю нет никого из бывших в те времена в училище, кто не сохранил бы о нем самого благодарного, полного симпатии и уважения воспоминания. Но как профессор он казался нам тяжелым немецким педантом, со всем своим «римским правом», которого мы никак не соглашались признать чудодейственною силой, долженствующею прочистить, осветить и направить все наши понятия о праве, о всем справедливом, несправедливом, законном и преступном. Нам казалось, что тут излагаются все такие ординарные вещи, которые мы очень хорошо знаем и без всякого классического римского права: например, что нельзя строить свой дом на чужой земле, нельзя продавать яблоки из чужого сада и тому подобные необыкновенные, никому не известные истины. «К чему это он нам провозглашает, да еще с таким патетическим энтузиазмом, — говорили мы друг другу, — что не должно признавать законным тот договор, в основу которого положена нелепость? Бот он, бог знает как торжественно, декламирует, что ничего не значит такой договор, где сказано, чтоб один из договаривающихся nu-dus sai-ta-ve-rit in fo-ro (проплясал бы голый на площади)? На что нам этот вздор, да еще непременно на латинском языке, да еще каким высокопарным, гнусливым, протяжным голосом! Точно мы и так не знаем, что чепуха есть чепуха! Чему тут учить посредством римлян и Юстиниана?» Если б мы уже и тогда знали все карикатурные нелепицы фребелевской системы, наверное, мы тогда так прямо и сказали бы: «Вся эта классическая ветошь, весь этот великий универсальный „юридический разум“ — тот же Фрёбель, расспрашивающий ребенка, где потолок и где дверь, где нос и где правая рука, как называется стул и как зовут господина учителя?» — Профессор латинского языка, Гримм, издали казавшийся нам необычайным каким-то светилом, оказался таким же обыкновенным учителем, как прежний наш Михлер в маленьких классах. Вся разница была только в том, что у этого мы переводили из одних латинских писателей, а у того — из других, вот и все. Впрочем, оба были премилые, хотя немножко крикливые малые, один помоложе, другой постарше, и оба почти совершенно не знали по-русски, так что нередко иные между нами, из глупого, непристойного школьничества (впрочем, довольно забавлявшего класс) иной раз переводил Гримму sacerdos не «жрец», а «жеребец» и многое на тот же лад. По-латыни у нас никто не выучивался порядком, и, я думаю, не только теперь, но через 2–3 года после училища все лучшие наши доки ни одного слова не поняли бы ни в одной латинской надписи, очутившись, например, случайно в какой-нибудь католической церкви или рассматривая подпись под какой-нибудь старинной гравюрой. В том-то и беда, что солидности у нас было мало в ученье и слишком много фольги напоказ! В высших классах было у нас «предметов» по 16, по 17. Что это такое было и на что? Не угодно ли допросить кого-нибудь из старых правоведов, начиная с тайных и действительных тайных советников и разных орденов кавалеров и кончая титулярными советниками и губернскими секретарями, что они помнят из энциклопедии права, проповеданной нам с кафедры (вдобавок ко всему остальному, по-немецки) нашим сухопареньким музыкантом в белом галстуке и с Анной на шее, Штёкгардтом, или из «межевых законов», которые нам мычал коровьим голосом бывший землемер Малиновский, нечто вроде добродушнейшего гиппопотама в мундире, неповоротливый, со сгорбленной шеей и никогда не мытыми руками, или, наконец, из «логики с психологией», читанных нам нашим законоучителем старательно и серьезно, но в том совершенно ничтожном духе, который был предписан трусливою и невежественною опекою тех времен — «толкуй, дескать, о сухих алгебраических формулах сколько душе угодно, но до какого-нибудь настоящего дела дотронуться — боже тебя сохрани!» Как подумаешь, какая громада брошенных денег, понапрасну истраченных хлопот, без толку ухлопанного времени! И ведь за все это нам ставили баллы, и мы отвечали (иные даже «очень хорошо» и «превосходно»), иных награждали за все эти классы, других наказывали. Но была ли, в сущности, большая разница между знающими и незнающими, между высоко и низко отмеченными по ученью, особливо по части ученья права? Не думаю. Жизнь и служба совершенно иначе рассортировали впоследствии гг. правоведов, и все эти «энциклопедии права» и многое другое — решительно пошли прахом.