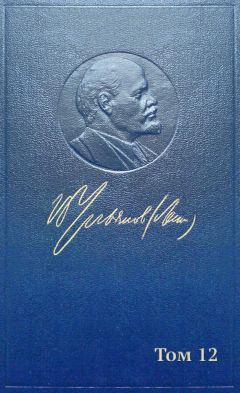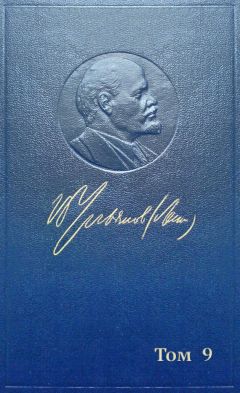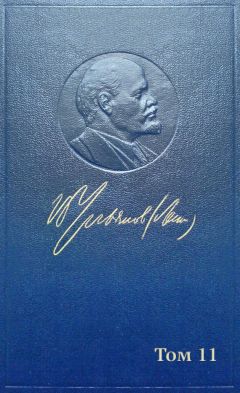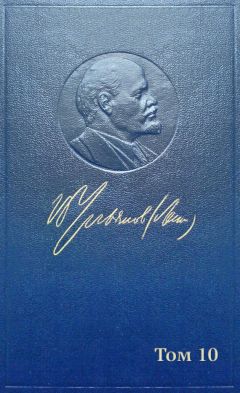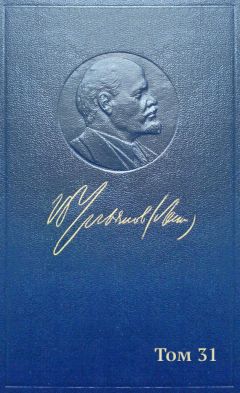Астра - Изверг своего отечества, или Жизнь потомственного дворянина, первого русского анархиста Михаила Бакунина
— Чиновники и офицеры ровно ничего великого в Пушкине не видят! Не всякому дается поэзия Пушкина и трудно открывается, потому что в мир пушкинской поэзии нельзя входить с готовыми идейками, — отрывисто заговорил он, беспорядочно размахивая руками, похожий на неказистого деревенского мужичка. — Обилие нравственных идей у него бесконечно. И бесконечна грусть, как основной элемент поэзии Пушкина, этот гармонический вопль мирового страдания, поднятого на себя русским Атлантом… И эти переливы и быстрые переходы ощущений, эти беспрестанные и торжественные выходы из грусти в широкие разметы души могучей, здоровой и нормальной, а от них снова переходы в неумолкающее рыдание мирового страдания…
Он говорил, ни на кого не глядя, пока не иссяк и молча засел в углу возле заледеневшего плачущего окошка.
— Говорят, жена его… — начал Мишель.
Станкевич решительно воспротивился этим словам.
— Не хочу обвинять и жену его. В этом событии какая-то несчастная судьба.
«Несчастная судьба»…
Мог ли предположить Николай Станкевич, что и его судьба, и судьба той, перед которой благоговело его воображение, уже накренились под натиском все того же светского предрассудка!
… Александр Михайлович хмурился. Суставы ломило, словно к дождю, зима выдалась хлипкая, на полях темнели обширные бесснежные пятна… Худо, худо. Но разве замечал он погоду раньше, в золотые дни юности? Рим, Турин, Париж… разве там не было дождей и гроз?
— Не погода, а годы, — вздыхал старик.
Зрение его угасало, болели ноги, день ото дня полнилась душа тягостными предчувствиями. Дочери, голубки его, скучали в имении, точно в золотой клетке. Любиньке шел двадцать шестой год, Танюше двадцать третий, Александре тоже стукнуло двадцать. Взрослые, взрослые женщины. Умри он сейчас, что с ними будет? Без сомнения, супруга, Варвара Александровна, заменит его, как сделал это его мать, Любовь Петровна, после кончины батюшки Михаила Васильевича. Так, да не так! Старший сын, Мишель, не оправдал никаких надежд. Несчастный малый! Он-то и является причиной всех бед. С его страстным, заразительным красноречием и полной беспомощностью в практической жизни он несется к пропасти сам и увлекает других. Слепой ведет слепых. Что с ним будет? Эта философия, эти друзья, праздная жизнь — как это непохоже на устои жизни деятельной, полезной и благородной!
Один Станкевич выделяется среди всех.
Александр Михайлович вздохнул.
Переписка его дочери с молодым человеком почиталась им предосудительной. Сказать по-русски, она была оскорбительна для чести всего семейства. Как в отдаленные годы его юности, так и ныне, надеялся он, обмен письмами и записками допускался лишь между женихом и невестой. Помолвки же никакой не было, молодые люди объяснились наедине. Без родителей…
Старик вздохнул еще тяжелее. Больше месяца он, отец, потворствует недопустимым вольностям, позволяя своей дочери питать ни на чем не основанные надежды. Не пора ли, как говорится, употребить власть и выяснить намерения этого юноши? Что он думает и говорит в своем кругу? Не является ли его дочь предметом недостойной игры? К огромному своему огорчению, он готов был теперь препятствовать любому делу, в котором участвует его старший сын. Да, да, как это не прискорбно!
Вздрогнув, он позвал жену в приоткрытую дверь кабинета.
— Напиши, мой друг, письмо в Москву, для милейшего Николая Александровича Станкевича. Я надиктую.
… Прочитав послание, Станкевич вспыхнул. С отменной придворной вежливостью старый аристократ напомнил ему о приличиях, которые всеми благовоспитанными людьми наблюдаются и без которых никакое общество существовать не может.
В тот же день в Прямухино ушел ответ. Николай Станкевич извещал Александра Михайловича Бакунина о том, что безусловно признает правоту его слов, понимает его беспокойство и приносит глубочайшие извинения за то, что стал невольной причиной его волнений, однако, без согласия своего батюшки он никогда не решится на столь важный шаг. Тогда же ушло и письмо к отцу в Воронежскую губернию, в имение Удеревку с просьбой благословить его брак с девицей Любовью Александровной урожденной Бакуниной.
Отправив послания, Николай в изнеможении откинулся на спинку стула и погрузился в созерцание своей души. Вмешательство Бакунина-старшего уподобилось пушечному ядру, влетевшему в оранжерею и внезапно поразившему хрупкое цветение его нежности к Любаше, озаренное ее взаимностью. Рано, слишком рано! Любая определенность, возникшая раньше времени, губительна, тем более подневольная…
Три сокрушительные недели, протекшие в ожидании родительского благословения, превратили молодого поэта в больного обессиленного человека.
Слов нет, зима в тот год выдалась малоснежная и сырая. Даже крещенские морозы не ударили, не затрещали как встарь, но лишь вызвездили на Москвой высокое зимнее небо. И вновь зачастили оттепели, мокрые полу-снежные дожди. Не они ли унесли здоровье?
Ах, если бы воспротивился его отец! Но Станкевич-старший во всем полагался на своего разумного, такого необыкновенного, сына. Его согласие не замедлило. Николай замер с письмом в руке, слушая, как расползается по душе горестное едкое предчувствие. Еще не поздно отступить! И пусть падет на его голову позор бесславия, крушение в глазах друзей, пусть он будет страдать! Он привык страдать, он выстоит. Не дрогнув, он приобщится глубокой нравственной истине пред нацеленными в его грудь копьями приличий, которые всеми благовоспитанными людьми наблюдаются…
Но Любинька… она не поймет его. За что ей такое? Жалость пронзила его.
Впервые в жизни изменил он себе внутреннему, надеясь, что верность внешняя вознаградит его за измену самому себе. Однако, для столь высоких натур нет оправдания. Кому многое дано, с того многое спросится. Наказание последовало тотчас же. Оно раскручивалось с неумолимостью рока и стало гибельным для обоих.
Предложение было послано письменно и принято благосклонно. Отныне Николай Станкевич числился официальным женихом Любови Бакуниной.
Теперь в его квартире на правах будущего родственника со всеми удобствами поселился Мишель. Сама Любаша просила брата поберечь ее любимого.
— Мишенька! Будь его ангелом-хранителем! Не оставляй его, — умоляла она.
Долго просить не пришлось. У Станкевича Мишелю было привольно. Можно валяться по диванам с растрепанной «Феноменологией» Гегеля, дымить на весь дом подобно самоварной трубе, засыпать табаком опрятные комнаты.