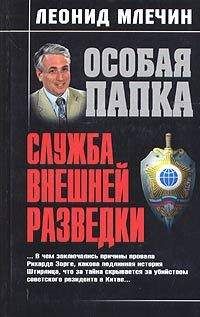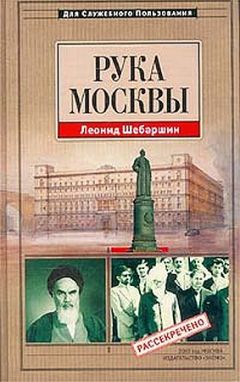Катрин Шанель - Последний берег
– Гм, знаете ли… Нервы разыгрались…
Мне не понадобилось много времени, чтобы поставить ему диагноз – капитан страдал от тяжелейшей истерии. Вероятно, и абстиненция доставляла ему немало страдания.
– Вам же нельзя пить, – сказала я ему.
– Ни капельки, – согласился он. – А как без этого? Все или пьют… или колют морфий… или кокаин… Все нормальные люди. Только такие чокнутые ублюдки, как Менгеле, могут жить на трезвую голову. Я солдат, мадемуазель. А из меня сделали какое-то дерьмо.
И он начал замысловато ругаться по-немецки. Полагаю, ему помогла бы психотерапия, но копаться в этой душе, полной гниющих чудовищ? О, нет, я не бралась подрабатывать золотых дел мастером!
– Вам нужно ехать куда-нибудь и полечиться. Отдохнуть.
– Я не могу. Я на службе.
– Но вы же можете вернуться в Германию? Найти там хорошего врача?
– Врача… Психиатры Германии занимаются уничтожением больных. Вы слышали об этом, мадемуазель? Это могло бы представлять для вас профессиональный интерес.
Безумным он определенно нравился мне больше. Он даже походил на человека. Разумеется, я слышала о том, что фюрер подписал указ об эвтаназии психически больных. Что там возмущавшие меня электрошоковая терапия, что там лоботомия! Немецким врачам рекомендовалось «содействовать смерти» тех, кто не мог работать; кто находился пять лет без перерыва в психиатрической больнице; кто содержался под стражей как криминальный душевнобольной; наконец, тех, кто не принадлежал к арийской расе. Элита немецкой психиатрии засучила рукава и взялась за списки. Были подготовлены «институты эвтаназии», числом шесть. Эти заведения были очищены от прежних стационарных больных, в них установили газовые камеры и печи для кремации. Пациентов, которым была назначена последняя в их жизни процедура, фотографировали и затем отводили в газовую камеру, оборудованную как душевая комната. Но по трубам тек газ, а не вода. Когда комната наполнялась, врач включал газ. Проблема была решена. Но вмешалась церковь, и «благое» начинание как-то угасло. Впрочем, немецкое здравоохранение успело избавиться от нескольких десятков тысяч пациентов. Не стоит думать, что эвтаназии прекратились. Они перестали быть явными.
– Они убили моего племянника, – пробормотал капитан Пиф-паф. – А он был славный парнишка… Да, он был славный парнишка, просто не мог обуздать своего нрава. Ему было всего тринадцать. Говорили, что он буйный, нечистоплотный и обладает патологической тягой в воровству. Мой бог! Кто из мальчишек любит умываться? Кто упустит случай стянуть яблоко или пышку? Он непослушный, да, но настоящий мужчина должен иметь свою волю! Его объявили сумасшедшим, лечили так, что немудрено было и в самом деле тронуться рассудком! Сестре написала какая-то служащая клиники, советовала его забрать. Но сестра много работала и не смогла даже съездить туда – за прогул на заводе могли осудить, как за саботаж… В письме были какие-то смутные предостережения – мол, его сочли бесполезным членом общества… А потом ей прислали письмо: мол, ваш сын в связи с экономической необходимостью был переведен в другое, не известное нам учреждение. Перевод пациента был назначен в соответствии с указаниями Секретариата национальной обороны. О состоянии вашего сына вам сообщит принявшее его учреждение в соответствующее время… И потом ей сообщили только о его смерти. Бедный парнишка!
И этот здоровяк снова затрясся от рыданий. Я даже почти подавила брезгливость и попыталась взять его за руку, но все-таки не смогла.
– Зачем они убили его?
Что я могла ему ответить? Сейчас он был пациент, я – врач. Я не могла сказать ему: а для чего вы тут убиваете людей? Они тоже чьи-то любимые племянники, дети и родители, братья и сестры, возлюбленные, наконец.
– Это система. Его убила система, господин Рикенбах.
– Пусть система заведет себе своих племянников и распоряжается их жизнью, как ей у-угодно, – сказал Рикенбах. Это был почти уже бунт. – Надеюсь, он хотя бы не страдал, наш бедный Эрик.
И вновь я не могла его утешить. Просто потому, что не знала, какой смертью умер необузданный немецкий подросток, чем-то не угодивший страшной государственной машине. Он был некондиционной деталью, и его вышвырнули на свалку. А как это произошло, кто может знать?
Разумеется, через какое-то время я узнала, что директорам психиатрических клиник приказано было вводить для безнадежных пациентов особую диету, которая незамедлительно оказывала свое действие. О-о, эта диета, диета-Е очень полезна для душевнобольных, она приводит их к полному выздоровлению! Приказ не был оформлен на бумаге, но за его исполнением весьма пристально наблюдали. Меню пациентов, которым предписана была диета-Е, состояло из чая на завтрак и вареных овощей на обед. Ужин не рекомендовался, жиры были признаны безусловно вредными, основой рациона признавались шпинат и капуста. Решение о том, кого посадить на диету, принимал главный врач.
И все же это было слишком медленно. На диете-Е некоторые особенно живучие больные тянули по году – отбирая пищу у других, получая от родственников… Бывали и случаи каннибализма. В конце концов все это решили прекратить. И тогда пациентов стали убивать инъекциями и таблетками. В ход пошли опиаты, барбитураты, скополамин, триолан, люминал. Врачи постепенно повышали дозы и наконец вводили пациентов в глубокий сон, который переходил в последний сон…
Что за люди это делали?
Я могла бы сидеть с ними на одной студенческой скамье. Читать одни и те же книги. Восхищаться теми же мэтрами. Когда-то я ездила в Баварию исследовать феномен Терезы Нойманн – как-то она там сейчас, жива ли? Я встречалась с доктором Фальтлхаузером. Не очень симпатичный, но знающий, культурный человек. Был ли он монстром? В его больнице было ликвидировано две тысячи «безнадежных». Он заявил: мол, для эвтаназии могли быть выбраны только те пациенты, по отношению к которым не было никакой надежды на улучшение, например, совершенно не поддающиеся лечению шизофреники, тяжелые случаи идиотии и безнадежные случаи органических психозов. Асоциальные типы, бесполезные для общества!
Что должно случиться, при каких обстоятельствах врач утрачивает гуманность и начинает вести себя подобным образом? Как бы я поступила в этом случае? Фальтлхаузер утверждал, что действовал согласно закону и не с преступным намерением, а с осознанием того, что вершится акт милосердия. Вот оно. Врачи перестали смотреть на своих пациентов как пациентов. Они применяли оценочные суждения, они видели в больных только своих жертв. Болезнь могла быть неизлечима, но не больной.
Это был важный для меня урок. Я хотела научиться смирению. Я хотела, чтобы моей единственной целью стало благополучие моего пациента. Адвокат порой защищает виновного, хирург оперирует убийцу, я чувствовала себя обязанной помочь капитану Пиф-паф, какое бы отвращение он мне ни внушал. И я сидела рядом с ним, слушала его речи, успокаивала его. Я прописала ему лекарства и даже похлопала его по руке. Я не надеялась ни на какую благодарность, когда целых две недели, день за днем, оказывала ему услуги психотерапевта, и наконец он пришел в себя до такой степени, чтобы снова исполнять свои обязанности начальника лагеря.