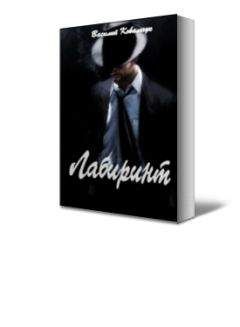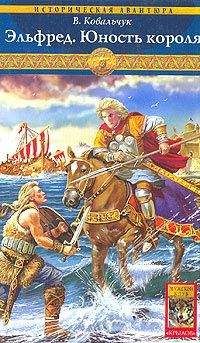Людвиг Мойзиш - Операция «Цицерон»
Даже Сейлер, первый рассказавший нам о ней, не мог её понять. В течение последующих нескольких недель он часто говорил мне, что Элизабет, какой она стала в Анкаре, кажется ему совсем не той девушкой, которую он знал в Софии. В чем причина этой внезапной перемены, я так никогда и не узнал.
На следующий день после своего приезда Элизабет заболела. Единственный симптом болезни выражался в том, что у неё страшно распухло лицо. Я с трудом настоял на посещении её доктором, так как она упорно отказывалась от всякой медицинской помощи. Моя жена пошла навестить ее, но девушка осталась совершенно равнодушной к её посещению, апатичной и молчаливой. Эта молчаливость становилась просто невежливой. Через несколько дней, когда я сам навестил ее, я заметил на столике рядом с кроватью несколько коробочек со снотворным. Мне пришла в голову мысль, что, быть может, странное состояние девушки объясняется чрезмерным употреблением успокаивающих средств. Я сказал об атом доктору.
Теперь я понимаю, что мне не следовало вмешиваться в это дело. Элизабет не хотела уходить из гостиницы, но она не говорила по-турецки, а никто из слуг не знал ни одного другого языка. И я боялся, что за ней не было надлежащего ухода. Поэтому против её воли я убедил Элизабет переехать в дом друзей моей жены, которые были и моими друзьями. Здесь с Элизабет обращались, как с родной дочерью, но она продолжала оставаться неотзывчивой, раздражительной, а временами просто грубой.
– Наверное, она больна, – извиняясь за своего секретаря, сказал я её доброй хозяйке.
Всё это казалось очень странным. Дней через десять доктор сказал, что Элизабет достаточно поправилась и может приступить к работе. И вот она впервые появилась в моем кабинете. Для начала я дал ей самые простые поручения, главным образом переводы из французской и английской прессы. Ее переводы оказались совершенно неудовлетворительными: в них была масса ошибок и описок, да и внешне они выглядели весьма небрежно. Этого я уж никак не ожидал, так как она говорила по-английски и по-французски почти без акцента.
Мне кажется, я уже сумел достаточно ясно показать, что Элизабет стала для меня обузой, а не помощницей. Но поскольку я так настоятельно требовал её перевода из Софии, мне приходилось мириться с этим. Больше того, я всё ещё надеялся, что со временем она избавится от этого действительно невыносимого летаргического состояния и, возможно, перестанет быть такой неряшливой. Чтобы дать ей почувствовать мое доверие и таким образом ободрить ее, я время от времени поручал ей более важную работу, чем переводы из прессы. Конечно, я ничего не говорил Элизабет об операции «Цицерон», но старался пробудить у неё интерес к работе, обращаясь с ней не как с обыкновенной машинисткой, а как с секретарем, которому доверяют. Этим я совершил, как потом оказалось, ужасную ошибку, но ведь известно, что легко судить обо всем здраво уже после того, как событие произошло. В то время я думал, что это полезно.
Я уже описал наружность Элизабет, когда она сошла с поезда в Анкаре. Я надеялся тогда, что, придя в себя после своего длительного путешествия и софийских воздушных налетов, она позаботится о своей внешности. Я ошибся. Она продолжала оставаться невероятно неряшливой, даже грязной. Как большинству мужчин, мне неприятно было ежедневно видеть перед собой плохо одетую, неопрятную женщину. Но я не знал, что делать, и ничего не предпринимал.
Наконец, однажды, когда я склонился над ней, рассматривая какие-то документы, лежавшие на её столе, я почувствовал неприятный запах её волос. Это уж было слишком, с этим я примириться не мог. И вот, когда она вышла из комнаты, я попросил моего верного друга Шнюрхен намекнуть Элизабет, конечно, как можно более тактично, что в Анкаре имеются прекрасные парикмахерские.
Очевидно, Элизабет поняла, от кого исходил намек. Она обиделась, но все же сходила в парикмахерскую. Вернувшись из нее, Элизабет преобразилась, и с тех пор, если не считать временных возвратов к прежнему состоянию, она, казалось, ударилась в противоположную крайность, тратя на свою наружность массу времени и денег. Все же она дала мне понять, что обижена моим вмешательством. В течение нескольких дней она совсем не разговаривала со мной.
Я слишком доверял Элизабет, и это было серьезной ошибкой, за которую мне пришлось потом расплачиваться. Еще более серьезной ошибкой было мое равнодушие к её личной жизни. Скоро я узнал, что у неё были какие-то дела с одним из двух немецких дезертиров, интернированных в Анкаре, – людей, которых я назвал Гансом и Фрицем. Теперь я не помню, который из них это был.
Всевозможные сплетни составляют неприятную, но неизбежную часть жизни небольшой группы людей, находящихся за границей. Я всегда ненавидел сплетни и старался не слушать их. Личная жизнь моего секретаря, казалось мне, была её делом и меня абсолютно не касалась. Осмелюсь утверждать, что теоретически я был прав. Будь я, к примеру, обычным дельцом, эта точка зрения не причинила бы мне никакого вреда. Но мне следовало бы помнить, что в сейфах обычных дельцов не часто хранятся документы, подобные тем, которые передавал нам Цицерон. Да, легко рассуждать об этом уже после того, как все произошло.
Спустя некоторое время Элизабет переехала из дома моих друзей на квартиру, которую она сама сняла в одном из многочисленных домов, сдающихся в наем. И опять, если бы я был немного более любопытным, я мог бы вовремя узнать, что комнаты, находившиеся над квартирой Элизабет, занимал один из служащих английского посольства.
Маленький камешек, падая, может вызвать обвал. Элизабет предстояло сыграть решающую роль в операции «Цицерон», роль, которая, с нашей точки зрения, оказалась губительной. Пожалуй, она никогда не была бы замешана в это дело и, во всяком случае, не сыграла бы такой крупной роли, если бы не возненавидела меня. Оглядываясь на все это теперь, я отчетливо представляю себе случай, который, очевидно, и заставил Элизабет возненавидеть меня. В тот момент и был стронут маленький камешек. Хотя она и была существом нервным, случай этот кажется мне слишком уж незначительным.
Однажды у меня в кабинете Элизабет писала под мою диктовку, причем сидела, закинув ногу на ногу, так что совсем открылись её красивые ноги. Откровенно говоря, это раздражало меня, нарушая ход моих мыслей и мешая диктовать. Прошло несколько минут. Наконец, проходя мимо нее, я остановился и, сделав какое-то шутливое замечание, слегка одернул её юбку. Элизабет страшно покраснела. Она ничего не сказала, но в тот же момент я понял, как она возненавидела меня.
Глава восьмая