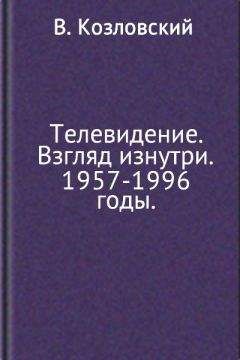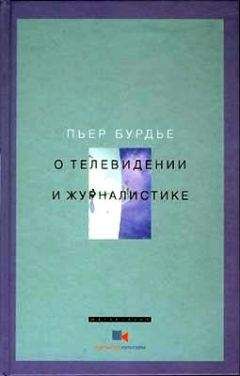Леон Островер - Петр Алексеев
Серые рысаки быстро домчали коляску до дома генерал-губернатора; кучер остановил лошадей не перед парадным подъездом на Тверской, а свернул в переулок и въехал в широкие ворота. Офицер проворно выскочил из коляски и распахнул дверцу.
Слезкин выгрузился медленно, по-стариковски, но, очутившись на земле, приосанился и молодцеватым шагом, гремя волочащимся за ним палашом, направился в дом.
В коридоре было темно. Слезкин не видел охраны, хотя знал, что где-то тут дежурят его «молодцы»,
— Есть тут живая душа?
Словно из-под земли, выросли два охранника.
— Григорий Иванович у себя? — спросил Слезкин, не ответив на приветствие.
— В диванной, ваше превосходительство!
Слезкин, подобрав палаш, направился к белой двери, на которой смутно отсвечивало золото затейливого рисунка. Не постучав, Слезкин вошел в комнату.
На длинном столе стояли хрустальные вазы. Узкоплечий человек с большими пушистыми усами, держа на весу вазу, разглядывал в ней что-то. Это и был Григорий Иванович Вельтищев — не то камердинер, не то наперсник князя Долгорукова.
— Здравствуй, Григорий Иванович!
— Здравствуйте, — сдержанно ответил камердинер. Он поставил вазу. — Когда изволили приехать?
— Только с вокзала. Как князь?
— Туча.
— По какому поводу?
— Вами недоволен. Говорит, «караул» надо кричать, а вы поете «аллилуйя».
Слезкин улыбнулся: вон оно откуда ветер дует! Всю дорогу из Петербурга в Москву он думал о том, что, собственно, произошло. Четыре дня носились с ним в Петербурге, как с дорогим гостем: Потапов — шеф жандармов и начальник Третьего отделения — возил его к графу Палену, министру юстиции, тот — к царю. Доклад прошел блестяще: царь поднялся из-за стола, чтобы поблагодарить Слезкина стоя. Из дворца увез его градоначальник Трепов «откушать в семейном кругу». А на пятый день — отшатнулись от него все. Когда он явился с визитом к графу Палену, тот его не принял, а непосредственный начальник, Потапов, увидев его вчера в приемной, удивленно взглянул на него и раздраженно спросил: «Вы еще в Петербурге?»
Слезкин понял, что кто-то «вымазал его дегтем». Но кто?.. И вот теперь он получил ответ: всесильный Долгоруков! Друг царя!
Начальник московского жандармского управления сразу почувствовал, что он стар, что ноги дрожат, что из спины уходит сила, придававшая фигуре стройность. Он присел к столу и заискивающе посмотрел на «всесильного» Вельтищева.
— Григорий Иванович, мне бы с князем поговорить.
— Нельзя. Убираются.
— Очень надо.
Григорий Иванович пристальным взглядом умных глаз окинул Слезкина.
— Прижали, — сказал он участливо. — А вы, генерал, не горюйте, — добавил он добродушно. — Образуется. Посидите тут, а я посмотрю, как князь. Если вёдро — позову.
Григорий Иванович ушел. Слезкин прислонился головой к спинке стула, закрыл глаза. В голове шумело. Наплывала дрема.
— Пожалуйте, ваше превосходительство!
Слезкин вскочил, подобрался и валкой кавалерийской походкой зашел в спальню князя.
В глубоком кресле завернутый в пудер-мантель сидел генерал-губернатор князь Долгоруков. Щегольски одетый француз Леон Эмбо прилаживал паричок на лысую голову князя.
— Поздравляю, генерал.
— С чем, ваше сиятельство?
— Тебя государь жалует брильянтами к Александру Невскому.
— Спасибо, ваше сиятельство, за приятную новость.
Парикмахер приклеивал волосок к волоску. Григорий Иванович стоял в стороне и подбадривающе смотрел на Слезкина.
— Тебе Потапов показывал мое письмо?
— Не показывал, ваше сиятельство.
— Странно…
В эту минуту парикмахер завивал колечком усики князя, и слово «странно» прозвучало плоско, без буквы «р».
— Воейкова видел?
— Нет еще, ваше сиятельство.
Парикмахер отступил на несколько шагов, поворачивая голову вправо и влево, проверял свою работу, и, оставшись ею доволен, приблизился к креслу балетными па и осторожно, кончиками пальцев, снял с князя пудер-мантель.
Долгоруков оказался в одном белье, в туфлях на босу ногу.
— Ваше сиятельство… — начал парикмахер.
— Пошел! — отмахнулся от него князь. — Григорий, проводи господина Леона.
Парикмахер собрал свой инструмент и вышел из комнаты танцующим шагом. За ним последовал и Григорий Иванович.
— Я недоволен тобой, генерал, — сказал князь, продолжая сидеть неподвижно, как при парикмахере. — В государственных делах нет пауз: одно наплывает на другое. И то, что было хорошо сегодня, завтра уже может быть плохо. Государя надо было успокоить, потому и нужен был твой доклад. Но ты-то не первый год носишь голубой мундир. Ты-то должен был знать, что преступная пропаганда вовсе не пошла на убыль — наоборот, усилилась. Успокоил государя, получил награду, закройся в кабинете с Потаповым и Паленом и доложи: «Плохо, ваши высокопревосходительства, мы готовимся к войне с турками, а у нас Парижской коммуной попахивает. Надо усилить корпус жандармов, нужны дополнительные ассигнования на охранные мероприятия». А ты сам поверил в свой доклад и на весь Петербург затрубил в победный рог.
Здание тюрьмы предварительного заключения, в котором находился Петр Алексеев.
Выступление Петра Алексеева на суде. Рис. художника Гольдштейна.
Лидия Фигнер.
— Ваше сиятельство, у нас нет больших дел!
— Ты хочешь сказать, что нет раскрытых больших дел? Согласен. Но это еще не значит, что нет преступной пропаганды. Она есть. Раскрой ее. Создавай большие дела. И пойми, генерал, что у нас не может быть спокойно. В шестьдесят первом мы повернули резко влево, в шестьдесят шестом — резко вправо. Карета и та после резких поворотов кренится набок, а мы поворачиваем такую махину, как Российская империя. Вот истоки преступной пропаганды. А ты в победный рог трубишь!
— Ваше сиятельство! Москва…
— Знаю, что ты скажешь, генерал. В Москве нет большой промышленности. И слава богу! Не так закоптили небо, как в Петербурге. Но ты, генерал, забываешь, что древнее слово «Москва» звучит весомее, чем нерусское словцо «Питербурх». Тут, в древней Москве, мы должны печься о святости монархии. А что получилось? В прошлом году Петербург разгромил наших доморощенных дантонов и Маратов, а у тебя в Москве была тишь да гладь. Недоволен я тобой, генерал. — Долгоруков поднялся; шаркая туфлями, он подошел к зеркалу. — Артист этот французишка! Посмотри, какие колечки! Усики, как у гусарского корнета. И куда это Григорий запропастился?
— Здесь я, ваше сиятельство!