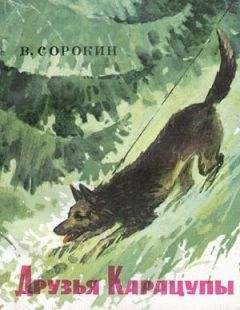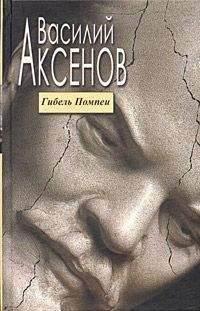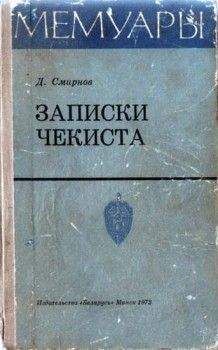Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий
— Мой Кот, — так называла меня, — и что захочу, то с ним сделаю! Не хочу, чтобы вырос вторым математиком он; а уж растет лоб: лобан!
Вот первое, что узнал о себе: «уже лобан»: и переживал свой лоб как чудовищное преступление: чтоб скрыть его, отрастили мне кудри; и с шапкой волос я ходил гимназистом уже; для этого же нарядили в атласное платьице:
— У, девчонка! — дразнили мальчишки.
И — новое горе: отвергнут детьми я; кто станет с «девчонкой» играть?
Любовь родителей рано разрезала на две части.
— Что есть, Боренька, нумерация? — спрашивал отец, когда было мне пять лет.
— Как же, голубчик мой, опять не знаешь: ужасно-с! А как знать? Не смею знать.
— Если выучишь, — помни: не сын мне!
Так угрожала мать; и эти угрозы реализовались тотчас же сценой с отцом, если он был тут; и гонениями ужасающей силы на меня с момента выхода отца; а он — всегда уходил; и дома был гостем; все прочее время — заседал вне дома иль вычислял в кабинете.80
И я — не знал нумерации, формула которой читалась над моим носом из «Учебника арифметики» Бугаева (был такой);81 и там что-то говорилось о Финикии; пусть лучше не знать нумерации, чем подвергаться ряду гонений: сперва Неронову, потом Диоклетианову и т. д.;82 первые эпизоды истории христианства, вытверженные «с зубка», тотчас разыгрались во мне, как события арбатской квартиры; «мама» — на меня, мученика, выпускаемый лев; а отец — гладиатор, с ним борющийся; но участь его — быть растерзанным или быть обращенным в бегство: в университет, в клуб.
— Что он тебе рассказывал?
— Превращение гусеницы в бабочку.
— Ну, бабочка, это еще ничего…
Бабочка, как и цветок, — не вредит ребенку, а «нумерация», приближая «второго математика», — запретная вещь; а то, что факт естественного рождения твердо усвоен ознакомлением младенца с историей развития и фактами трансформизма, что «аист» отстранен, это — невдомек матери (и — слава Богу: а то и за бабочку мне влетело бы!); должен заметить: я не помню эпохи, когда я бы не знал, что человек произошел от обезьяны, ибо все то было по-своему впитано мною из шуток отца и разговоров его с друзьями, как-то зоологом Усовым, моим крестным отцом, ярым дарвинистом, у ног которого копошился в гостиной я, жадно внимая (слушать разговоры взрослых не возбранялось); вообще основы позитивизма и механического мировоззрения, полупонятные, разумеется, и разыгрывающиеся в сознанье мифично, были первой мифологией моей (до религиозной мифологемы); так: почему-то не гиббон, а цепкохвостая обезьяна казалась мне праматерью человека; и Самуил Соломонович Шайкевич, адвокат, у нас бывавший, за эту приверженность к цепко хвостой обезьяне меня поддразнивал:
— А ты — цепкохвостая обезьяна.
И насколько помню себя, помню «Зоологию» Поля Бэра83 и прекрасный зоологический атлас для детей, который я рассматривал каждый день до семилетнего возраста; показывать зверей — тоже не возбранялось; возбранялась — нумерация:
— И одного довольно! Возбранялась и грамота:
— Не смей учиться читать.
И я, складывавший из квадратиков слова «папа», «мама», вдруг их лишенный, пяти лет забыл буквы, которые знал четырех лет; семи лет я с трудом одолел грамоту; с пяти до семи — строжайший карантин:
— Не смей читать.
Мне гувернантки читали о зверях, рыбах; и я безошибочно показывал в атласе:
— Муфлон, ленивец, каменный баран!
«Ядом» естествознания я был охвачен до поступления на естественный факультет: первое увлечение переживалось четырех-пятилетним; второе — одиннадцати-двенадцатилетним; все грезы сводились к одному: «Когда ж я буду натуралистом?» Но пятилетний интересовался главным образом млекопитающими; двенадцатилетний специализировался на птицах (сочинение Кайгородова было изучено назубок)84.
Описывая страдания, наносимые мне матерью, я был бы безжалостным сыном, если бы не оговорил: болезнь чувствительных нервов приросла к ней, как шкура Несса к умирающему Гераклу85; она испытывала невероятные страдания; ее «жестокость» — корчи мук; в минуту, когда с нее снималась эта к ней прирастающая шкура, она менялась; в корне она была — прекрасным, чистым, честным, благородным человеком; потом видел я ее в процессе медленного выздоровления и высвобождения из-под ига несчастного недуга; и я с восхищением и с любовью на нее смотрел.
Она была в описываемый период вполне беспомощна; беспомощность — и болезнь, и условия воспитания.
Дед по матери, Дмитрий Егорович Егоров, переменил фамилию («Егоров» от «Егорович»), когда узнал, что его усыновивший «отец» (он был незаконнорожденный) — «отец» со стороны (он был богатый аристократ); дед разорвал все с отцом; и сам стал себя воспитывать; имея художественные наклонности, он кончил театральное училище; одно время он пел в хоре Большого театра; но скоро, уступая совету хорошего знакомого, купца, стал помогать ему в его деле, бросил театр, занялся коммерцией; позднее имел и свое дело (меха); у него был достаток; был он человек очень чистый и строгий, но — замкнутый; его друг — доктор Иноземцев; другой, хороший знакомый — доктор Белоголовый; с ними он затворялся у себя; бабушка была ниже его и по уровню развития, и по интересам, ее девическая фамилия — Журавлева;86 где-то, через прабабушку, она была в родстве с Ремизовыми, с Лямиными и с другими купеческими фамилиями; с А. М. Ремизовым (с писателем) я нахожусь в каком-то преотдаленнейшем свойстве через прабабушку; мать помнит хорошо свою прабабушку (мою прапрабабушку); она ходила в мехах и в кокошнике; умерла же ста четырех лет; няня матери двенадцатилетней девочкой пережила двенадцатый год; я ее помню хорошо; она являлась к нам из богадельни, и мне вырезывала ворон; в доме у дедушки почему-то часто бывал молодой студент, Федор Никифорович Плевако; с Плевако были знакомы родители; но традиции знакомства шли через мать.
Любопытно: в доме дедушки (по матери) постоянно бывали какие-то Патеры; оказывается, эти Патеры отдаленные родственники моей бабушки (по отцу), кровной москвички; один из Патеров чудак-мистик, седобородый старик, изредка являлся у нас в доме; позднее, уже по смерти отца, он был потрясен моей статьей в «Новом Пути»;87 и расписывался во всяческом понимании меня, тогда почти никем не понятого.
Дедушка Егоров имел уязвимую пяту: боготворил свою Звездочку (так звал мою мать);88 и разрешал ей все, что ей ни взбредет в голову; так стала пятилетняя Звездочка тираном в доме; дедушки боялся весь дом, а дедушка боялся Звездочки; так и произошло, что Звездочка, будучи в четвертом классе гимназии, объявила, что из гимназии она выходит; дедушка не перечил: началась эпоха домашних учительниц, которые, разумеется, Звездочку ничему не научили, кроме музыки, которую она любила; наоборот: она их учила. Одна из воспитательниц стала позднее другом матери; она бывала у нас: Софья Георгиевна Надеждина, дочь Егора Ивановича Герцена, жившего слепцом на Сивцевом Вражке, впавшего в нищету, которому помогали старики Танеевы: с Сивцева Вражка и приходила Софья Георгиевна к нам, оставаясь верной насиженному месту; по Сивцеву Вражку гуляли мы; здесь же жил Григорий Аветович Джаншиев, о котором ниже.
![Василий Стенькин - Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](/uploads/posts/books/45116/45116.jpg)