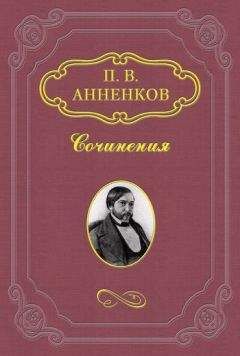Павел Анненков - Материалы для биографии А. С. Пушкина
Холодные, хотя и блестящие, образы обычных спутниц всякой молодости, которыми занималась муза Пушкина до 1819 года, теперь совсем пропадают, и место их заступают образы антологических его стихотворений, полные жизни и чувства. Нельзя не согласиться, что большая часть их навеяна чтением Андрея Шенье, но есть между обоими поэтами и существенная разница. Пушкин сокращает представления Шенье, когда берет его за образец, и дает своим переделкам меру и изящество, не всегда сохраняемые подлинником. Качества эти еще сильнее выступают в собственных его созданиях, и тогда к аттической грации очертаний присоединяется у него тонкий психологический анализ. Таковы стихотворения «Нереида», «Дорида», «Дориде» и проч., написанные в это время{119}. Мы имеем полное право сказать, что красота формы, гармония внешних линий были первым навеянием классической Тавриды, первым ее подарком поэту-странствователю.
Переехав пролив, Пушкин очутился в Керчи. Известно его письмо, заключающее в себе беглое описание путешествия по южному берегу Крыма{120}. Оно помещено теперь в примечаниях к «Бахчисарайскому фонтану», но прежде напечатано было отдельно в «Северных цветах» на 1826 <год> под заглавием «Отрывок из письма А.С. Пушкина к Д*». Письмо было вызвано появлением в 1823 году новой книги[98], но начало его, по желанию самого Пушкина, не попало в печать. Прилагаем его здесь вместе с разбором самого документа, который может подать повод к любопытным соображениям.
«Путешествие по Тавриде» прочел я с чрезвычайным удовольствием. Я был на полуострове в тот же год и почти в то же время, как и И.М.[99]. Очень сожалею, что мы не встретились. Оставляю в стороне остроумные его изыскания; для поверки оных потребны обширные сведения самого автора. Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? Различие наших впечатлений – посуди сам».
Затем Пушкин излагает довольно равнодушно впечатления, доставленные ему видом Митридатовой гробницы, где он сорвал цветок и потерял его без всякого сожаления на другой день; упоминает о развалинах Пантикапеи{121} как о груде кирпичей со следами улиц и бывшего рва. Из Феодосии он ехал морем до Юрзуфа, бедной татарской деревни. Картина ночного моря не дала ему спать до рассвета. На Чатыр-Даг, показываемый ему капитаном, он взглянул равнодушно; но когда, проснувшись под самым Юрзуфом, увидел берег с его зеленью, тополями, разноцветными его горами, огромным Аю-Дагом{122}, – равнодушие поэта пропало, и несколько жарких строк письма оканчивают параграф, начатый совсем в другом тоне.
В Юрзуфе он объедался виноградом; ухаживал с любовью за кипарисом, который рос в двух шагах от его дома; прислушивался к шуму моря по целым часам, и все это, прибавляет он, с равнодушием и беспечностью неаполитанского lazzaroni[100].
Но есть другое письмо Пушкина, которое излагает впечатления тогдашней жизни живее и, может быть, откровеннее.
«Корабль плыл, – говорит Пушкин, – перед горами, покрытыми тополями, лаврами и кипарисами; везде мелькали татарские селения; он остановился в виду Юрзуфа, где находилось семейство Р<аевских>. Там прожил я три недели. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства Р<аевского>. Я не видел в нем героя, славу русского войска; я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества… Суди, был я счастлив? Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, которую я так люблю и которою никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море… Друг мой! Любимая моя мечта – увидеть опять полуденный берег и семейство Р<аевского>»[101].
Как превосходно отразилась в этом задушевном письме натура Пушкина, всегда жаждавшая привязанности и наслаждений дружбы! Но будем следить далее за напечатанные письмом. От Юрзуфа Пушкин начинает объезд южного берега Крыма и передает его подробности в том же полуравнодушном – полудовольном духе. Переход по скалам Кикениса оставил в нем только забавное воспоминание о подъеме на гору, причем путешественники держались за хвосты татарских лошадей. Георгиевский монастырь с его крутой лестницей к морю произвел в нем, однако же, сильное впечатление, а баснословные развалины храма Дианы переродили его даже в слепого почитателя народных преданий. Они вызвали известные стихи:
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья{123}, и проч.
«Видно, – замечает Пушкин, – мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических»{124}. Бахчисарай был особенно несчастлив. Пушкин прибыл туда опять больной лихорадкой и едва посмотрел на ржавую трубку знаменитого фонтана, из которой капала вода. В развалины гарема и на Ханское кладбище его повели уже почти насильно, но вскоре после этого осмотра он написал увлекательное стихотворение, где те же предметы являются совсем в другом свете:
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы!{125} и проч.
Окончание письма{126}, не попавшее в печать, как и начало его, по требованию – как мы уже сказали – самого Пушкина, содержит в себе неожиданное опровержение всех предшествующих уверений в равнодушии. Вот оно:
«Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные с таким равнодушием? Или воспоминание – самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему… и проч.?»
Таким образом, Пушкин выказывается здесь со всем жаром своей души, со всею своею впечатлительностию и вместе с какой-то осторожностью в передаче чувства. Он вообще любил закрывать себя и мысль свою шуткой или таким оборотом речи, который еще оставляет возможность сомнения для слушателей: вот почему весьма мало людей знали Пушкина, что называется, лицом к лицу.
Глава VI
Кишинев, поездки, «Кавказский пленник», отдельные стихотворения. 1820–1823 г.: Кишинев, – Поездка в Киев на свадьбу М.Ф. Орлова, пребывание в деревне Давыдовых, Каменке, где в феврале 1821 кончен «Кавказский пленник». – В мае 1821 Пушкин в Одессе. – Доходы Пушкина от поэм, анекдот о Гнедиче. – Стихотворение «Друг Дельвиг, мой парнасский брат…» и письмо к Дельвигу. – Пушкин основывается в Кишиневе. – О переписке Пушкина с друзьями. – Картина Кишинева. – Временные отлучки Пушкина из Кишинева, история происхождения стихотворений «Кто знает край…», «Под небом голубым…», «О, если правда, что в ночи…», «Для берегов отчизны…». – Стихи «Гречанке» и «Иностранке». – Пушкин в обществе. – Пушкин в литературных отношениях, заботливость его о своих произведениях, «Полярная звезда». – Кишиневская жизнь, Пушкин и Инзов, наклонность к резвой шутке у первого и добродушная строгость последнего. – Напоминовения помнить важность своего призвания. – Письмо неизвестного на французском языке и ответ на него: «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел…» – Мелкие, стихотворения, написанные в Кишиневе. – Сильная поэтическая деятельность и возрастающая крепость гения. – Появление стихотворений «К Чадаеву», «Наполеон», «Овидию» и проч. – Поездка в Измаил за цыганским табором и стихотворение «За их ленивыми толпами…». – Замечания о думах Рылеева. – «Братья разбойники» и первая строфа «Онегина». – Стихотворение «Воспоминаньем упоенный…».