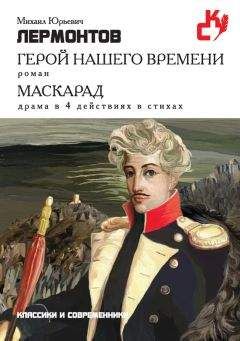Мицос Александропулос - Сцены из жизни Максима Грека
В прошлом году он и не заметил, как земля покрылась снегом. Точно чудо произошло. Он помнил, как приятно было тогда ходить по сухому твердому снегу. Снежные сугробы покрыли на несколько месяцев улицы, кровли домов и церквей. Снег сверкал на солнце, лаская взор своей белизной; куда ни обратишь взгляд, всюду благословение божье. Ни ветра, ни других капризов непогоды. Максим не мерз даже по ночам, прожил зиму, точно закутанный в вату. Все слышанное на Афоне о жестоких зимних стужах в северных странах забылось по приезде сюда. А теперь вспомнилось. Тогда он был в Москве гостем: еще три-четыре месяца, год, и он возвратится на Святую Гору. А теперь неизвестно, когда это произойдет, через три-четыре года, через полтора десятка лет. Одному господу ведомо, когда выпадет ему счастье вернуться в Ватопедский монастырь. А до тех пор никуда не уйти от русских морозов, снегов, льдов. И порой долгие дни, которые предстояло прожить здесь, пока не засверкает солнце возвращения на родину, представлялись Максиму такими же бесконечными, как суровая зима, и при мысли об этом стыла кровь, пробирала дрожь.
Но в тот осенний день еще больше него мерз Исак по прозвищу «Собака». Монах этот, первоклассный каллиграф, по приказанию Вассиана красивым почерком переписывал новый перевод Максима — «Житие Богородицы» Симеона Метафраста.[130] Список этот предназначался для самого великого князя. Обычно Исак работал искусно и внимательно. Но сегодня рука плохо ему повиновалась. Келейник Максима Афанасий не протопил как следует печь, и трое других писцов, Селиван, Михаил и молодой Зиновий,[131] тоже мерзли и трудились без всякой охоты. Исак к тому же был сильно не в духе, — ведь Максим запретил ему пить брагу во время работы. Вот почему ему казалось, что он и окоченел больше всех, да так, что не только руки, но и слух его ослабел. Он едва слышал голос святогорского монаха, который теперь уже переводил на славянский сам, без посторонней помощи. Иногда до Исака долетали слова, но он не улавливал их смысла. Голова у него гудела, как улей.
— Святые отцы, сегодня я обязательно сделаю какую-нибудь ошибку, и немалую, быть может, а посему прекращаю свои труды, — проворчал он, положив перо и согревая дыханием руки. — Холодище проклятый, пальцы стынут, и перо я держу неловко, точно дитя неразумное.
Он бросил сердитый взгляд на Афанасия. Стоя на коленях перед печной дверцей, келейник дул изо всех сил, стараясь разжечь огонь. Все знали горячий нрав Исака. Он легко выходил из себя, а в гневе мог и прибить какого-нибудь смирного, безответного монаха. Однако на этот раз он сдержался и лишь сказал:
— Виноват, думается мне, Афанасий. Он сегодня спустя рукава делает свое дело.
Селиван, считая, что в присутствии Максима говорить этого не следовало, поднял голову.
— Чем виноват, по-твоему, брат Исак, бедняга Афанасий? Морозы ударили внезапно, а дров мало, да и сырые они, и пока нагреются стены, не один день пройдет.
Исак пробормотал что-то, даже не взглянув на Селивана. Афанасий же осмелел от заступничества писца, любимца Максимами, выпрямившись, обратился к Исаку:
— Знай же, святой отец, еще позавчера я говорил его преподобию, что надо протопить кельи, да он не разрешил.
— Гм, конечно, — пробурчал Исак. Оставив в покое келейника, он весь свой гнев обратил теперь на игумена. — Вместо того, чтобы пожалеть людей, дров пожалел святой отец. Но ему какая забота! Его печка жарко горит, для себя его преподобие ни дров не жалеет, ни труда людского. И если вдруг дрова сырые и не сразу разгораются, есть у него и иной способ согреться.
Писцы молча улыбались, склонившись над рукописями. Михаил Медоварцев, увидев, что Афанасий перестал раздувать огонь и внимательно слушает Исака, поспешил строго сказать:
— Не пристало нам говорить подобное о святом игумене, братья мои. Грех это. Святой отец денно и нощно печется о монастыре и лучше нас знает, когда протапливать кельи. Не в том дело, что дров пожалел игумен. Он просто ведать не ведал, что нежданно завернут холода.
Писцы перестали улыбаться. Исак Собака из-под густых рыжих бровей сердито посмотрел на Михаила. Лицо его побагровело от гнева. Но, сдержавшись, он промолчал. Вдруг глаза его оживились.
— Брат Михаил, — ласково сказал он. — Ты, как всегда, прав. Каюсь, впал я в грех и нынче же вечером не премину припасть к ногам святого отца и испросить у него прощения. И не забуду передать ему все, о чем толковали мы позавчера с глазу на глаз в моей келье. Как помнишь, говорили мы о его преподобии и сказано было кое-что пострашнее, чем то, что я, грешник, сейчас наболтал. Попрошу прощения и за то…
— Ты говоришь, с глазу на глаз, брат Исак? — испуганно перебил его Михаил.
Исак невозмутимо взглянул на него, и по лицу его промелькнула улыбка.
— Да, с глазу на глаз, — подтвердил он необыкновенно сладким голосом.
— Когда же?
— Тому назад три дня.
— Где, брат Исак?
— В моей келье после вечерни.
— И я был там, ты говоришь?
— Ты и я, брат мой, и больше никого. Да как же ты запамятовал?
— Чистосердечно признаюсь вам, святые отцы, ничего не помню, — опустив голову, едва слышно прошептал Михаил.
— И неудивительно, брат Михаил, — продолжая ласково смотреть ему в глаза, сказал Исак. — И со мной случались подобные напасти. Забываем мы кое-что из наших скверных поступков, а почему? Сатана, который вводит нас в искушение и заставляет погорячиться, сам делает так, что мы забываем сказанное или сделанное. Начисто забываем или не придаем этому значения. И то, что мы не расстаемся с заблуждением и не просим отпустить нам грехи, тоже дело рук сатаны.
Другие монахи, судя по их лицам, как и Михаил, нашли такое объяснение вполне разумным.
— Верно ты говоришь, отец Исак, — выйдя из оцепенения, промолвил Михаил. — Но раз то, о чем ты упомянул, произошло целых три дня назад, сильно запоздали мы очистить от греха душу. Я, несчастный, забыл о случившемся, а ты, брат мой, как же ты, помня все, молчал до сих пор? Это вина немалая!
И Михаил с облегчением улыбнулся, глядя на Исака. Улыбнулся и тот.
— Ох, в том-то и беда, брат Михаил, — вздохнул Исак. — Так сатана делает свое черное дело. Не только тебя, но и меня, грешника, он усыпил. И потому я тоже забыл, что ты мне говорил о святом игумене. Но теперь, слушая тебя, сразу вспомнил.
Михаил опять помрачнел. Он хотел прекратить поскорей неприятный разговор. На этот раз он оплошал, не сумел справиться с хитрецом.
— Понимаю, брат, — сказал он, — мы оба поздно осознали свою ошибку. И ты виноват не меньше меня, ибо мы оба в равной мере впали в грех. Но теперь нам пора одуматься. Сегодня же вечером я пойду к игумену.