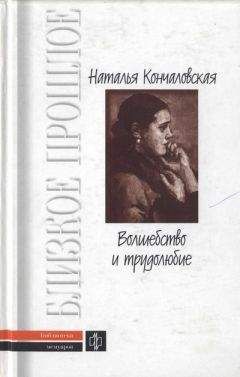Наталья Кончаловская - В поисках Вишневского
Значит, тут человек должен переключить свое гуманное мышление на жесткую, холодную волю человека-автомата?
В автомате сносилась деталь, нужно ее заменить свежей!..
Когда я однажды завела об этом разговор, с Александром Александровичем, он выслушал меня и потом, поморщившись, сказал:
— Слушай, наука — вещь жестокая, всякая наука. Здесь приходится, особенно в хирургии, подчас и свой разум, и свои чувства подчинять необходимости и вкладывать их в профессиональное мастерство, в технику. А жертвы… Жертву приносить приходится всем — и донорам, и реципиентам, и медикам. Мало ли врачей, которые ради науки избирали себя самих в качестве подопытных экспонатов? Сколько было случаев, когда во время страшных эпидемий врачи пробовали вакцины на себе. И кто-то выживал, а кто-то становился жертвой науки, как профессор Берлин, прививший себе вакцину чумы и скончавшийся от чумы…
Так сказал мне Александр Александрович Вишневский, и, признаться, мне нечего было возразить.
Что помнят друзья
Николай Петрович Харитонов. Смотрю на него, и кажется мне, что как раз под него гримируют персонажей из кинофильмов, если надо показать тип «коммуниста двадцатого года», хотя возрастом он много моложе. Но в русском лице с благородными чертами, с классической линией носа и мягкой щеточкой усов на верхней губе, над привычной сдержанностью главенствует достоинство.
Такие лица видишь на фотографиях рабочих и студентов, борцов за революцию, в музеях русских городов. Там эти лица — самые разные, но все они хранят одно, роднящее их выражение непоколебимой внутренней силы. Вот такое лицо, у Николая Петровича, офицера запаса, ныне пенсионера. Он худощав, строен, еще совсем не стар, с лукавой усмешкой и умным спокойным взглядом карих глаз.
Вот он сидит передо мной, затягиваясь сигаретой, и рассказывает неторопливо:
— С Александром Александровичем я познакомился по поводу операции на лице, которую он мне сделал сам. Случай был как будто пустяковый: возвращаясь из Средней Азии, я побрился в какой-то привокзальной парикмахерской, и вдруг «прикинулась» к губе болячка, которая начала перерастать в опухоль.
Операция была несложная, но лечиться пришлось долго. И вот тут-то мы и подружились с Александром Александровичем. Меня к нему, к этому доброжелательному, общительному, остроумному человеку, так всегда тянуло, что, уже совсем поправившись, мы продолжали видеться. Ему, наверное, тоже было со мной небезынтересно, поскольку мы с ним подружились надолго: до конца его жизни. За тридцать с лишним лет я изучил его и полюбил как очень близкого, родного мне человека. А человек он был редкой самобытности, и меня всегда поражала его постоянная, неизбывная одержимость своей работой.
Все, за что он брался, становилось для него делом первейшей важности, он не мог оставаться умеренным, не говоря уже о равнодушии. И, понятно, в некоторых людях это вызывало раздражение и неприязнь. Так, многие из его коллег не могли простить ему его постоянного стремления к новаторству, к научному экспериментаторству, считая его карьеристом и честолюбцем. А по существу, он вечно боролся за свою великую, я не преувеличиваю, именно — «великую идею» всесильности хирургии в продлении человеческой жизни, особенно когда медицина пришла к применению трансплантации органов.
При всей горячности его крутого характера основой в нем была организованность. А целеустремленность помогала ему добиваться желаемого.
Так, в 1948 году после смерти отца — Александра Васильевича, которого он боготворил, он задался целью подготовить к печати все его труды и около четырех лет систематически и упорно работал над статьями и лекциями отца, отбирая материалы, редактируя. В 1952 году было опубликовано это издание, которое и поныне служит молодым хирургам серьезным подспорьем. И все это наряду с огромной ежедневной работой Александра Александровича в операционной клинике на Большой Серпуховской. Он оперировал даже в выходные дни, уж не говоря о постоянном посещении своих больных даже в ночное время. Нередко ночью он срывался с постели, вызывал дежурного шофера и мчался по пустынным улицам в клинику: приглядеть, проверить, самому пощупать пульс у оперированного и, удостоверившись, что все в порядке, вернуться домой — досыпать.
Уставал ли он? Уставал, конечно, но не духом! Пользуясь правами близкого друга, я часто заходил к нему в кабинет и заставал его сидящим на диване после сложной операции. Он сидел молча, недвижно смотрел в одну точку, словно сосредоточившись на расслаблении всех мышц, а мысленно проверял все детали проделанной работы. Я не тревожил его и, сидя в сторонке, ждал, пока он выйдет из оцепенения. Он приходил в себя внезапно, тут же начинал быстро ходить по кабинету, о чем-то расспрашивая, что-то рассказывая, потом останавливался передо мной, снимал запотевшие очки и протирал их, радуясь удаче на утренней операции или сокрушаясь нерасторопностью ассистентов. И мне казалось, что он выкладывал весь запас энергии, оставшийся в нем после пятичасового напряженного стояния у операционного стола.
— Ты подумай, — говорил он, — ведь не бывает двух одинаковых больных! И все же мы часто слишком надеемся на прошлые опыты и в результате наталкиваемся на неожиданности. Значит, что же это?.. Значит, надо глубже и серьезнее относиться к диагностике и всегда, всегда, — акцентировал Александр Александрович, — быть готовым к неспецифической картине болезни. — И тут вдруг, усевшись на стул напротив меня, восклицал с просветлевшим лицом: — А какой больной! Герой!.. Какая дисциплина у него! Какая терпеливость и вера, вера в нас, хирургов! Да при такой вере и сам-то начинаешь верить в свои сверхвозможности! И хочется быть достойным его веры в тебя!..
Помню, однажды Александр Александрович сделал операцию на открытом сердце женщине лет тридцати, которой надо было извлечь два осколка гранаты, оставшиеся у нее после ранения на фронте. Александр Александрович взялся провести операцию и пригласил меня посмотреть на этот исключительный случай. В те времена в операционных еще существовали амфитеатры для врачей-курсантов ЦИУ, и я уселся там. То, что я увидел, было чрезвычайно интересно. Не буду описывать, как вскрывалась грудная клетка и как руки Александра Александровича прощупывали живое сердце, меня поразило то, что он, оперируя, разговаривал с больной.
— А ты чувствуешь, что именно я вытаскиваю из твоего сердца? — спрашивал он у женщины, и она что-то невнятно отвечала. А вытаскивал он из тканей сердца одну за другой металлические пластинки шириной в полсантиметра.