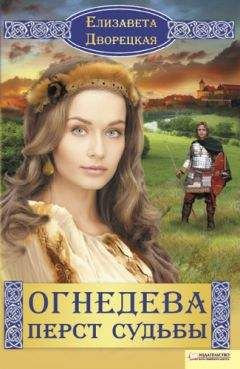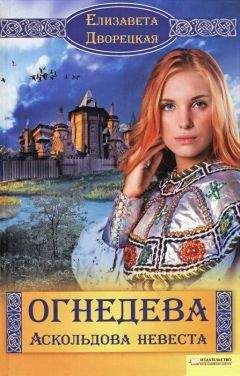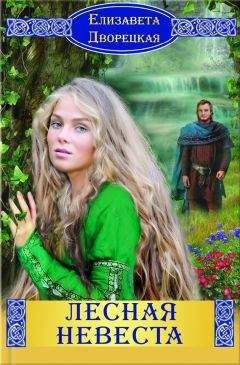Бернгард Рубен - Зощенко
Меня упрекали в том, что я очень мало говорил о фельетонах, которые написаны под псевдонимом „Гаврилыч“.<…>
<…> Зощенко берет волокитчика, бюрократа, конкретно называет его фамилию, имя, отчество, улицу, на которой он живет, и бьет его довольно сильно и крепко. Вот с этого-то момента и начинается приближение Зощенко к нам, а „Письма к писателю“ заканчивают этот период. Я не хочу этим сказать, что они заканчивают вообще приближение Зощенко к нам, но я думаю, что заканчивая какой-то определенный период, „Письма к писателю“ означают одновременно начало нового, еще большего к нам приближения этого исключительного писателя. И тут не прав тов. Стенич, который говорит, что Зощенко остался тем же, кем он был в 1922 году.
Некоторые т.т. удивляются, почему я придал особое значение тому, что Зощенко свои симпатии высказывает не в политических документах, а в замечаниях вскользь, в рассказах, повестях, в письмах и т. д. Очень просто, товарищи, декларация — она мертва, если не подкреплена делами. Вспомните прекрасные декларации Пильняка. Это были почти коммунистические декларации, — что же касается дел Пильняка, то они всем печально известны. У Зощенко, напротив, мы не знаем ни одного политического документа, в котором бы он говорил, что готов умереть за Советскую власть, но замечания вскользь, в заметках и в письмах, в рассказах, в повестях — весь идейный комплекс в его произведениях показывает, что мы имеем дело с очень близким писателем, который с ошибками, со срывами, но тем не менее идет к нам, и особенно важно, что он это делает без декларации, без трескучих фраз.
Необходимо пересмотреть ярлыки, которые мы наклеиваем писателю, их вообще нельзя приклеивать к писателю механически. Так вот приклеили, что Зощенко — мещанский писатель. Ничего подобного. Зощенко разоблачает мещанство, срывает с него маску. И в этом смысле Зощенко нам очень и очень ценен. Но в то же время не отметешь тех ошибок, которые имеются у Зощенко, — это значит сделать вредное дело. И его ошибкой является то, что в своей борьбе он расплывчат и недостаточно четок.
Здесь есть над чем подумать. Приближение Зощенко к рабочему классу будет зависеть от того, в какой мере быстро и решительно он будет отмежевываться от тех особенностей своего творчества, которые делают его не всегда четким писателем».
Этот яркий документ не нуждается, очевидно, в общем истолковании, но требует некоторых конкретных пояснений.
На данном писательском заседании, или «вечере», как выразился в прениях один из участников, обсуждался, по тогдашней терминологии, «вопрос о Зощенко». Но вопрос этот, конечно, уже заранее был решен в руководстве: не отдавать Зощенко «попутчикам». Об этом открыто и запальчиво сказал в своем выступлении близкий друг Зощенко Валентин Стенич (расстрелянный затем в 1938 году): «Не Чумандрин и не Либединский открыли Зощенко, и не он к вам пришел, а вы идете к нему. Вы опомнились только тогда, когда почувствовали, что его могут перехватить попутчики. Он пишет 8 лет в этом направлении, а вы это только сейчас увидели. <…>…его замалчивали попутчики из чистоплюйства. Для них он опасный писатель: его, мол, печатают в „Ревизоре“ и „Бегемоте“. А вот я знаю, что Зощенко однажды на эти упреки сказал: „Если бы я знал, что массовый читатель интересуется мною, я с удовольствием бы печатался на обертках конфет в миллионном тираже“. Разве это не характерно для него? А вы 8 лет говорили о Зощенко как о писателе, непристойном в среде толстожурнальных китов, и только „Письма к писателю“, где он точно и по-простецки высказывается, заставили вас опомниться».
При обсуждении «вопроса о пересмотре взгляда на Зощенко» все выступавшие поддержали такую постановку вопроса. Сам Зощенко, как следует из обсуждения, на заседании не присутствовал.
Так, по схождению множества причин — личностных, творческих, общественных, политических — чаша весов судьбы Зощенко склонилась в сторону сохранения его в литературе и в жизни.
А вот на Пильняке, судя по замечанию Чумандрина, к тому времени во властительных кабинетах уже был поставлен крест…
4. ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Интенсивная литературная работа сочеталась у Зощенко с не менее активной частной жизнью. Некоторые детали этой жизни зафиксировались в переписке «серапионов», главным адресатом которой стал Лев Лунц, тяжело заболевший в конце 1922 года и увезенный на лечение в Гамбург. «Серапионы» относились к нему исключительно нежно и поддерживали его своим постоянным вниманием. Он был в их «братстве» действительно всеобщим любимцем. И продолжал жить их интересами, сам часто писал им и с волнением ждал ответных писем. Каждый писавший ему, естественно, сообщал о том, как живут-поживают другие «братья», и Зощенко в этих сообщениях занимал весьма видное место. Приведем несколько выдержек из той переписки.
Из коллективного письма «серапионов» — текст Зощенко:
«После Федина невозможно писать. Федин романы пишет. После него мой стиль пропадает. Левушка! Целую нежно и все такое. А сын мой, Валька, умеет говорить „Люнц“. Миша Зощенко». (Середина октября 1923 года.)
Из письма Лунца от 22 октября 1923 года: «Зощенко, милый! Помнишь, когда я в прошлую зиму болел, ты часто приходил ко мне, садился в кресло, курил махорку, — и мы чесали языки, как старые бабы: сплетничали. Лежал я тогда в конуре, паршиво было и грязно, но было душевное, скажем, утешение в лице моих друзей и знакомых. А тут лучшая в Европе больница, и хоть помирай с тоски.<…> И даже ругаться с тобой согласен, лишь бы посмотреть на тебя. Немного таких, о которых так тоскую, — я эмигрантским нытьем пока не заразился. Говорят, у тебя вышли юмористические рассказы. Пришли, если можно. Ты помнишь, я их ценил очень и, в противовес многим, отнюдь не видел в этом умаление таланта. Плюнь на мудрых хулителей — им только Достоевского и подавай, — просто смеяться не умеют. <…>Валерию скажи, что „Люнц“ кланяется. Поцелуй ручку супруге».
Из письма Слонимского от 2 ноября 1923 года: «Я хожу в галошах и шубе, ставлю градусник, не признаю спиртных напитков, работаю — а Миша Зощенко вваливается ко мне в 3 часа ночи с кепкой на затылке, приплясывает, напевает что-то нечленораздельное и рассказывает о своих многочисленных романах. Я слушаю, как ты: снисходительно и научно». (В это время они, Слонимский и Зощенко, жили после закрытия ДИСКа в коммунальной квартире другого крыла того же елисеевского дома.)
Из письма Каверина от 14 декабря 1923 года: «Зощенко замкнулся в себе, упорно ищет нового пути для работы и недавно прочел прекрасный рассказ „Мудрость“. Стилистически необыкновенно тонко».