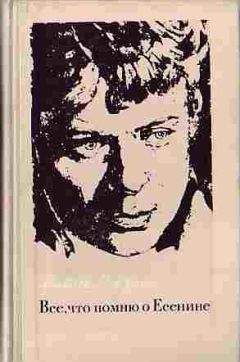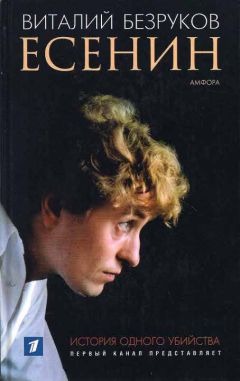Антология - Живой Есенин
И Есенин на минутку тишал.
То же магическое слово увело его из кабака.
На извозчике на полпути к дому Есенин уронил мне на плечо голову, как не свою, как ненужную, как холодный костяной шар.
А в комнату на Богословском, при помощи чужого, незнакомого человека, я внес тяжелое, ломкое, непослушное тело. Из-под упавших мертвенно-землистых век сверкали закатившиеся белки. На губах слюна. Будто только что жадно и неряшливо ел пирожное и перепачкал рот сладким, липким кремом. А щеки и лоб совершенно белые. Как лист ватмана.
Вот день – первой встречи. Утро и ночь. Я вспомнил поэму о «Черном человеке». Стало страшно. Может быть, не попусту плакал над ней Горький.
59
На другой день Есенин перевез на Богословский свои американские шкафы-чемоданы. Крепкие, желтые, стянутые обручами; с полочками, ящичками и вешалочками внутри. Негры при разгрузках и погрузках с ними не очень церемонятся – швыряют на цемент и асфальт чуть ли не со второго этажа.
В чемоданах – дюжина пиджаков, шелковое белье, смокинг, цилиндр, шляпы, фрачная накидка.
У Есенина страх – кажется ему, что его всякий или обкрадывает, или хочет обокрасть.
Несколько раз на дню проверяет чемоданные запоры. Когда уходит, таинственно шепчет мне на ухо:
– Стереги, Толя!.. в комнату – ни-ни! никого!.. знаю я их – с гвоздем в кармане ходят…
На поэтах, приятелях и знакомых мерещатся ему свои носки, галстуки. При встрече обнюхивает – не его ли духами пахнет.
Это не дурь и не скупость.
Я помню первую ночь, пену на губах, похожую на сладкий крем, чужие глаза на близком, милом лице и то – как рвал он и расшвыривал червонцы.
Раньше бывало по-иначему.
Как-то Мейерхольд с Райх были у нас на блинах. Пили с блинами водку. Есенин больше других. Под конец стал шуметь и швырять со звоном на пол посуду. Я тихонько шепнул ему на ухо:
– Брось, Сережа, посуды у нас кот наплакал, а ты еще кокаешь.
Он тайком от Мейерхольда хитро подмигнул мне, успокоительно повел головой и пальцем указал на валяющуюся на полу неразбитую тарелку.
Дело обстояло просто. На столе среди фарфорового сервизишки была одна эмалированная тарелка. Ее-то он и швырял об пол, производя звон и треск; затем ловко и незаметно поднимал, ставил на стол и швырял заново.
Или еще.
Наш беленький туркестанский вагон стоял в тупике ростовского вокзала. Есенин во хмелю вернулся из города. Стал буянить. Проводник высунулся из окна вагона и заявил:
– Товарищ Молабух не приказал вас, Сергей Александрович, в энтом виде в вагон пущать!
– Меня?.. не пускать?..
– Не приказано-с, Сергей Александрович!
– Пусти лучше!
– Не приказано.
– Скажи своему «енералу» в подбрючниках: ежели не пустит – разнесу его хижину!
– Не приказано.
Тогда Есенин, крякая, стал высаживать в вагоне стекла.
Дребезжа, падали стекла на шпалы. Почем-Соль стоял в купе, бледный, в нижней рубахе и подштанниках, с прыгающей свечой в руке.
А Есенин не унимался.
Прошло после разгрома вагона три дня. Почем-Соль ни под каким видом не желал мириться с Есениным. На все уговоры отвечал:
– Что ты мне говоришь: «пьян! пьян! не в себе!..» Нет, брат, очень в себе… Он всегда в себе… небось когда по стеклу дубасил, так кулак-то свой в рукав спрятал… чтоб не порезаться, боже упаси… а ты: «пьян! не в себе!..» Все стекла выставил – и ни одной на пальце царапины… хитро, брат… а ты… «пьян… не в себе»…
В этом был Есенин.
Если бы в день первой встречи в «Бродячей собаке» он показывал червонцы и рвал белую бумагу, я бы знал, что не так страшны и упавшие веки, и похожая на крем пена на губах, и безучастное ломкое тело.
60
Предугаданная грусть наших «Прощаний» стала явственна и правдонастояща.
Сначала разбрелись литературные пути.
Есенин еще печатался в имажинистской «Гостинице для путешествующих в прекрасном», но поглядывал уже в сторону «мужиковствующих». Подолгу сидел он с Орешиным, Клычковым, Ширяевцем в подвальной комнатке «Стойла Пегаса».
Ссорились, кричали, пили.
Есенин желал вожаковать. В затеваемом журнале «Россияне» требовал:
«Диктатуры!»
Орешин злостно и мрачно показывал ему шиш.
Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством.
Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно лобызал в губы, называл Есенина Сереженькой и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая:
– Олень! олень!
Вздыхал об олонецкой избе и до закрытия, до четвертого часа ночи, каждодневно сидел в «Стойле Пегаса», среди визжащих фокстроты скрипок и красногубой, пустосердечной и площадноречивой толпы, отрыгивающей винным духом, пудрой «Леда» и мутными тверско-бульварными страстишками.
Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями господними в «Стойло Пегаса», и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, одел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти, с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере.
Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о «Россиянах», обмозговывал, как из «старшо́го брата» вытесать подпорочку для своей «диктатуры», как «Миколаем» смирить Клычкова с Орешиным.
А Клюев вздыхал:
– Вот, Сереженька, в лапоточки скоро обуюсь… последние щиблетишки, Сереженька, развалились!
Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги.
А вечером в «Стойле» допытывал:
– Ну, как же насчет «Россиян», Николай?
– А я кумекаю – ты, Сереженька, голова… тебе красный угол.
– Ты скажи им – Сереге-то Клычкову и Петру, – что, мол, Есенина диктатура.
– Скажу, Сереженька, скажу…
Сапоги делались целую неделю.
Клюев корил Есенина:
– Чего Изадору-то бросил… хорошая баба… богатая… вот бы мне ее… плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил…
– Справим, Николай, справим! Только бы вот «Россияне»…
А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомочку и в ту же ночь, втихомолку, не простившись ни с кем, уехал из Москвы.
61
Вслед за литературными путями разбежалась у нас с Есениным дорога дружбы и сердца.
Я только что приехал из Парижа. Сидел в кафе. Слушал унылое вытье толстой контрабасной струны. Никого народу. У барышни в белом фартучке – флюс. А вторая барышня в белом фартучке даже не потрудилась намазать губы. Черт знает что такое!
На улице непогодь, мокрядь, желтый, жидкий блеск фонарей.