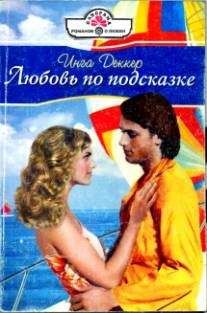Елена Кейс - «Ты должна это все забыть…»
Вошли в дверь рядом. Большой просторный кабинет. Сели. Он — за стол, я — напротив. «Сейчас придет лечащий врач вашей матери, тогда будем говорить». У меня тут же мороз по коже. «Вот эта „кушетка“ — лечащий врач?! Да от одного ее взгляда можно заболеть и остаться хроником». И еще подумала: «Не хочет говорить наедине. Собачья должность — самому себе не доверять». Сидим. Молчим. Вошла блондинка. Подала папку. Села в кресло — стало три пуфика. За все время нашего с ним разговора не проронила ни слова. Наверное, такие есть инструкции.
Главврач ко мне: «Мне передали, что вы хотели встретиться со мной». Мое секундное замешательство. Ведь я готовила себя, что он (он, а не я!) хочет поговорить со мной. Он оказался умнее — инициатива у него. «Меня интересует мамино здоровье. Она отказывается от свиданий. В чем причина?» «Вы же знаете — ваша мать очень больна. Отказ от свиданий — одно из последствий ее болезни», — ответ мгновенный, как заученный урок. «Здесь ей только хуже. Она поступила в лучшем состоянии». В его ответе прозвучало еле заметное раздражение: «Она здесь всего два года. Выводы делать рано». Я поняла намек: «Сколько же времени у вас обычно уходит на лечение?» Глаза его посмотрели настороженно. Мы понимали друг друга. «Ну, по крайней мере, пять лет». И вдруг: «Вы же должны понять — ваша мать совершила тяжкое преступление». Вот оно! Он напоминает — здесь не больница, а тюрьма. Я стараюсь, стараюсь говорить спокойно: «В ее возрасте и при ее состоянии — пять лет огромный срок. Она не выдержит». Он тоже уже не говорит о лечении: «За такие преступления люди находятся здесь гораздо дольше».
Бессмысленно объяснять ему, что обвинение сфабриковано, что у следствия нет никаких, даже самых надуманных аргументов ее вины по предъявленной ей статье. Его это не касается. Его осведомленность и инструкции строго ограничены. Он встал: «У нас гуманное государство. Но нарушать закон никому не позволено». Это кивок в сторону Англии. И для отчета блондинке. Ведь он и в ней не уверен. Однако цифра прозвучала — пять лет. Это долго, это очень долго. Но лучше, чем «до выздоровления».
Я не знаю, что писала в своем рапорте блондинка. Я написала своей сестричке так, как было. Ее задача была передать это в нужные и добрые руки. О своих просьбах и заявлениях в соответствующие инстанции упоминать не хочется. Адвокат делал, что мог. Но это, как я уже отмечала и как он предупреждал, была «видимость деятельности».
Потянулись дни и ночи ожидания. Кто не ждал, тот не поймет. Вот уж когда я воистину поняла, что время — понятие относительное. Что касается меня, то оно двигалось всегда наоборот относительно моего желания. И останавливалось совсем, когда я мечтала, чтобы оно пронеслось мимо меня, не оставив и следа в моей памяти. Может быть, время остановилось для меня, чтобы скорее пройти для моей мамы? Ох, как я сомневаюсь в этом…
Я не открою нового закона,
Все, что скажу, известно всем давно:
Не может мать родить дитя без стона,
Не светел взор, коль на душе темно.
Счастливые часов не наблюдают.
И эта истина подмечена не мной.
Но чем, вы мне скажите, измеряют
Весь долгий день, заполненный бедой?
Когда секунды бьют по сердцу, как гранаты,
Минуты плачут, будто чувствуют вину.
Когда часы стоят на месте, как солдаты,
И вы находитесь у времени в плену.
Но все-таки, ну чем же измеряют
Весь долгий день, заполненный бедой?
Те, кто в беде, отсчет часов теряют
Они стоят для них тюремною стеной.
Наступала весна 1978 года. Андрей заканчивал второй класс. Я старалась быть хорошей мамой. Я любила его за бабушку, дедушку и за себя. Я продолжала ежедневно писать маме письма и ездить в Казань. После отъезда папы я закончила курсы машинописи и устроилась на временную работу машинисткой. Работу разрешили выполнять на дому — машинисток не хватало. Стала брать частные заказы. Кому-то — диссертация, кому-то — отчет. Работа давала заработок и помогала отвлечься от мыслей. Самое страшное наступало ночью. Я стала бояться ночей. Мысли одолевали меня и душили. Мои мысли стали моими врагами. Спрятаться от них было некуда.
Что может быть страшнее мыслей?
Они, как спрут, меня обвили,
Как туча черная нависли,
Надежду всякую убили.
Лишь только ночь опустит крылья,
Они безжалостной толпою,
Подобно вражьей эскадрилье,
Все кружат, кружат надо мною.
От них мне никуда не скрыться,
И начинает мне казаться,
Что как прожорливые птицы
Они в мозгу моем теснятся.
И разрывают мозг на части,
И кровь сосут, как вурдалаки.
А я бессильна, я в их власти.
А мысли бесятся во мраке…
Но весна 1978 года все же наступила. Неожиданно (или после бесконечного ожидания?!) получаю письмо из суда: «Медицинская комиссия Управления МВД признала вашу мать, Лейкину Марию Львовну, хронически больной. Дело передано в Московский городской суд». Что мне, радоваться или рыдать? Боже, можно ли радоваться, если твою маму признают хронически больной?! Можно ли радоваться, что над твоей хронически больной мамой будет суд?! Рыдать надо. Рыдать. И кричать на весь мир — моя мама навсегда, навсегда, навсегда останется больной! Куда вы смотрели, люди?! За что?!
Но я радуюсь. Вопреки разуму, который еще у меня есть. А у мамы?! Где ты, мамочка, сейчас? Где?! Я потом узнала, где была моя мама в то время. Они перевели ее из Казани в Лефортовскую тюрьму. В одиночную камеру.
За неделю до суда раздался звонок из Лондона. Мужской голос на русском языке с иностранным акцентом спросил: «Вас можно поздравить?» «С чем?» — недоуменно в свою очередь спросила я. «Я слышал, вашу маму освободили», — голос прозвучал уверенно. «Вы ошибаетесь, — с горечью ответила я. — Суд будет только через неделю». «Но у меня есть сведения, что все в порядке. Возможно, сообщение пришло ко мне быстрее, чем к вам. Не волнуйтесь», голос был спокойный и надежный. Я замерла. Я хотела верить. Я почти поверила. Но я не забывала, где я живу. Еще стояли перед глазами две двери два мира. А голос продолжал: «Через неделю я буду в Москве. Скажите, как вас там найти». Я сказала.
Через неделю я была в Москве. У Лили. У той самой Лили Коган, которая сидела в кассе адвокатской конторы и казалась мне беспечно счастливой. У той самой Лили, к которой я заезжала каждый раз по дороге в ненавистную Казань. Ее дом стал моим домом. Это мне, первой, позвонила она в Ленинград в пять часов утра, когда умерла ее мама от болезни Паркинсона. Это мне, первой, сообщила она о своей свадьбе. И я, первая, увидела ее с ребенком, выходящую из роддома. Во время суда я жила у Лили Коган, и голос из Лондона нашел меня там.