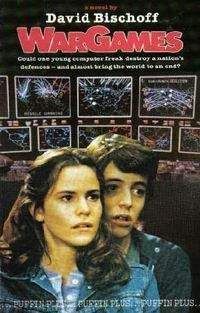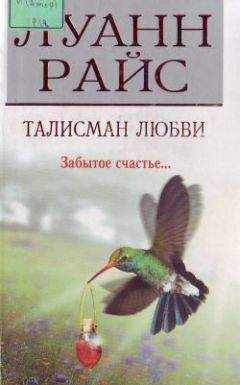Сергей Волконский - РОДИНА. Воспоминания
Теперь перейдем к полемике, вызванной орловским инцидентом.
С самого начала стало заметно стремление свести вопрос с его настоящей почвы и завести спор не о вопросе, а вокруг него. Первый фазис полемики был политический; даже того менее — фазис определения полицейской благонадежности говорившего. Помещик Нилус кричал в «Московских ведомостях», что Стахович — Робеспьер; Суворин в «Новом времени» клал руку в огонь, что он не Робеспьер.
Со статьей преосвященного Никанора в «Московских ведомостях», где доказывалось, что совесть — судья, судья же ограничен законом, следовательно, «сказать — свобода совести значит сказать абсурд», вопрос переносился на философскую почву. Епископу Орловскому возражал Розанов, философ, критик, публицист. И вот мы стали свидетелями, собственно, неслыханного явления: в одном из основных вопросов религиозной жизни светские люди принимались поучать духовных пастырей. «Светский, посторонний съезду человек» поднял вопрос о свободе вероисповедания перед синклитом пастырей почти в тот момент, когда они уже собирались расходиться. Они объявили, что не могут принять предложение докладчика об отмене уголовных наказаний по преступлениям против веры не только «по несоответствию его с задачами съезда, но и по существу». Церковь в лице своих представителей, таким образом, сперва как бы уклоняется отвечать, а затем устами епископа прямо отвечает отрицательно; она не только осуждает стремление к свободе совести, она ее самой не признает.
Среди всего этого психология православного духовенства мне представляется в некотором роде трагической. Ему во всеуслышанье, всенародно предъявляются факты насилия, совершаемые во имя той веры, коей оно есть провозвестник, факты, не только с его ведома совершаемые, но, согласно закону, по его инициативе возбуждаемые, и оно, духовенство, не может осудить тот принцип, в силу которого насилия творятся, не может — вследствие своей зависимости от светской власти. В душе, может быть, многие (даже, может быть, и каждый) возмущаются и сожалеют, что им приходится быть пособниками, — но нельзя, начальство приказало так поступать, а раз мы так поступаем, то надо же и обставить свои поступки; начальство требует: говорите, пишите, доказывайте, что поступки ваши правильны. И вот создается литература, отчасти заготовленная на все случаи вперед самим начальством, — «понеже, — как говорил Петр Великий епископам Синода, — не всяк епископ слово чисто сложить может», — отчасти составленная из писаний по каждому данному случаю, либо по приказанию, либо от себя, усердствующим автором. Два типа писаний наблюдается в этой литературе, два приема. Или фактическая сторона уменьшается до минимума, сводится до размеров «прискорбного случая», в котором почти сходит на нет (батюшка, говорящий, что «не говорил», или «не так» говорил, или «не там»); или вопрос переводится на отвлеченную почву, где, для отвода глаз, пускается в ход такой аппарат философских терминов вперемежку с елейно — умиленными, что в этой смеси все пути мышления теряются и, что называется, все концы в воду.
Все, что пишется и печатается в этом духе, не может быть выражением взглядов всего духовенства. Это видно и из разговоров, и из того немногого, что иногда проникает в печать. И вот где трагизм целой корпорации, поставленной между требованиями и побуждениями совести. Смотрит ли священник на свое служение с точки зрения «жены и малолетних детей» или служит по убеждению, ему одинаково должно быть стыдно и невыносимо от той роли, которую его заставляют играть, и положение его трагично. Но орловским инцидентом трагизм обострен до последней степени. Все ждут, смотрят, вопрошают… Что отвечать священнику?
Отсюда вижу батюшку где‑нибудь в уездном городе, в доме предводителя дворянства, например. Молебен только что отошел; с завернутым в епитрахиль Евангелием псаломщик ушел; батюшку просят откушать. В ожидании завтрака батюшку в гостиной «занимают». Уж чья это вина, не знаю — самого ли батюшки, или его начальства, или всего общества, каждого из нас, — только замечательно, что батюшку у нас всегда «занимают». Ни мы с ним не умеем, ни он с нами не умеет просто разговаривать. Он такой, как бы сказать, неучастник нашей общей жизни, что для него нужны специальные темы, особенный разговор. В присутствии батюшки как бы останавливается наша жизнь, и только по уходе его мы со вздохом облегчения к ней возвращаемся. Кто виноват, не знаю; свидетельствую лишь о грустном факте… После нескольких вопросов о здоровье матушки, о том, где псаломщик научился так хорошо петь, о том, как освящаются просфоры, о том, где лучше поставить новую икону, привезенную с Афона по подписке купечества, хозяин вдруг спрашивает: «Ну а что вы, батюшка, скажете о речи орловского предводителя к миссионерам?» А что ему сказать? «Резко как будто». Или: «Ведь это, скорее всего, вопрос полицейский». Или: «Что же нам сказать? Это вопрос высокий, можно сказать, философский». Или просто вздохнет батюшка и, покачав головой, скажет: «Да, прискорбно, прискорбно…» А что прискорбно: то ли, что такие дела делаются, или то, что такие речи говорятся, — это остается неизвестным… Среди неловкого ожидания более пространного пастырского ответа раздается голос хозяйки: «Батюшка, закусить пожалуйте». О речи на миссионерском съезде больше ни слова. Только по уходе батюшки земский врач вдруг говорит хозяину: «Однако коварный вы батюшке вопрос задали»…
Что не все священники отмалчиваются, а с другой стороны, не все говорящие думают согласно образцу, утверждаемому «охранительной печатью» и «Миссионерским обозрением», тому пример письмо священника Черкасского в «Петербургских ведомостях», замечательное по ясности взглядов, смелости их изложения, а также как голос самокритики из среды духовенства, как вопль церкви о самой себе. Кстати, вот еще одно совсем непонятное явление. Защитники настоящего положения вещей все время клеймят тех, кто стоит за свободное, непринужденное исповедание веры, именем противников церкви; требование отмены уголовного наказания за отпадение от православия называется антицерковным движением. Не мне опровергать это после прекрасной статьи присяжного поверенного Плевако «Своя своих не познаша». Прибавлю только, что, по моему мнению, наоборот: защищать настоящее положение вещей, оправдывать принудительное исповедание православия и уголовное преследование отпадения можно только становясь в противоречие с духом Вселенской церкви. Впрочем, это станет ясно, когда подойдем к статье священника Потехина в ноябрьском номере «Миссионерского обозрения»; теперь обратимся к письму священника Черкасского. Вот что он говорит по существу вопроса: