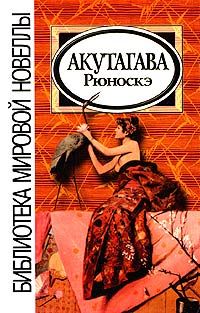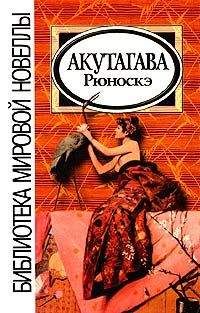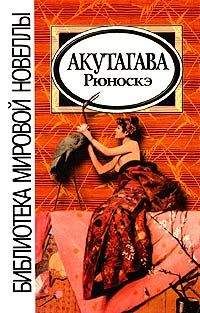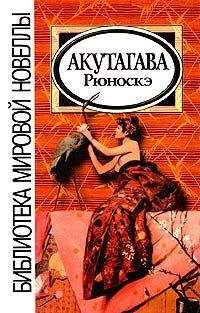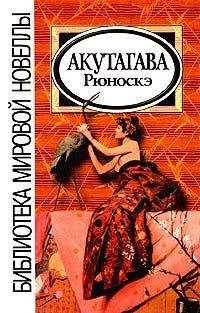Чтоб услыхал хоть один человек - Акутагава Рюноскэ
Как длинно я пишу о всяких глупостях! Но меня действительно всё время посещают такие мысли. Боюсь, что, перечитав, не захочу посылать тебе это письмо, поэтому отправлю не читая.
1912
28 июня 1912 года, Табата
Спасибо за газеты, которые ты мне прислал. Теперь я смогу несколько дней наслаждаться чтением твоего рассказа о том, как ты ездил на родину.
Я читаю запоем. Закончив дела, по полдня читаю неотрывно. Думаю, в июле наступит покой.
Двадцать шестого вечером ходил в Opera [57]. В тот день давали «The Quaker girl» [58] Таннера. Постановки меняются каждый раз – двадцать девятого дают «Musume» [59], о которой столько говорят. Среди зрителей было много иностранцев. Даже в третьем ярусе сидели две семьи, а как много их было в box [60] и orchestra stall [61], и говорить нечего.
Я был вместе с Фудзиокой-куном. Вещь несколько вульгарнее, чем я предполагал, к тому же я понимал далеко не все. Опера была очень смешная. Женщина, по виду американка, сидевшая сзади меня, смеялась так, что я боялся, как бы с её головы не слетела огромная соломенная шляпа с жёлтыми розами. Даже её представительный муж с розовым галстуком всё время насмешливо хмыкал. Неприятно было лишь то, что японцы, сидевшие в третьем и четвёртом ярусах на upper circle и gallery [62], знали, что, если долго аплодировать, артисты обязательно будут по многу раз петь на бис, вот они и аплодировали долго и неистово.
Выйдя наконец из ярко освещённого подъезда на улицу, мы увидели женщину в пальто из бледно-голубого атласа, на котором, на китайский манер, были вышиты облака, дракон и жираф. Из-под пальто выглядывала длинная светло-серая юбка, тоже очень красивая. Она шла к автомобилю с пожилой женщиной, одетой скромнее. Они разговаривали, кажется, по-английски. Встреча с этой женщиной позволила мне ощутить вкус Запада гораздо сильнее, чем Opera.
Двадцать четвёртого или двадцать третьего ходил в колледж. Там в одной из аудиторий сдавали экзамены в сельскохозяйственный университет в Саппоро. Увидев вопросы по математике, вывешенные на кирпичной стене коридора, я убедился, что они довольно лёгкие. В общежитии ещё остались Судзуки, Яги, Курода и Нэмото. Фудзиока живёт отдельно в западном корпусе. Он похож на anachorite [63].
Рю
15 июля 1912 года, Синдзюку
Прости, что долго не писал.
Недавно ходил в колледж, чтобы узнать о результатах экзаменов. Хотел пойти вчера утром вместе с Исидой, Оэ и кем-нибудь ещё, но собрался лишь к вечеру на следующий день. Ко всему ещё и жара стояла несусветная. Белёсое небо пылало, как расплавленный асфальт. Обуреваемый таким же жарким чувством, я решил сходить к тебе, чтобы всё рассказать, но Исида-кун воспротивился этому, сказав, что среди множества людей, которым мы должны рассказать обо всем, значишься и ты, а беспокоить тебя дважды ни к чему. (…)
Ничего не делаю из того, о чем мечтал до каникул. Не так много читаю. Нет никакого желания поехать куда-нибудь. Целыми днями только и делаю, что слушаю, как шумит дождь за окном. Ко мне редко заходят. Я тоже редко выхожу из дому. Не хочется говорить о том, что у меня с желудком не всё ладно, правда, кроме этого, ничего плохого не происходит. Из куска материи я сшил два мешка, наподобие мешков для чая, приделал к ним тесёмки, надел на ноги и завязал под коленями. Так, защитившись от москитов, я могу спокойно читать, дремать. (…)
Ходил в императорский театр на «Пещеру любви». (…) Пьеса ужасная, мне стало невмоготу смотреть ещё Шерлока Холмса и комические сценки, и я уехал домой на тряском трамвае. (…) Мне было даже неприятно, что я не могу наслаждаться ничем, кроме старой драмы Кабуки. Я уверен, что так будет до тех пор, пока создание пьес не окажется в руках молодёжи, проявляющей интерес к искусству.
Если у тебя есть какая-нибудь книжка mysterious [64] историй, сообщи. (…) В предисловии к своему сборнику стихов Россетти пишет, что книгами, в которых описывается сверхъестественное, зачитываются. Мне кажется, он слишком самоуверен. Я иногда читаю его с улыбкой. О, как бы мне хотелось жить в чистом мире стихов, как этот поэт. Adieu [65].
Рю
20 июля 1912 года
(Письмо написано по-английски)
Дорогой друг!
Благодарю за тёплое, сердечное письмо.
Сейчас семь часов вечера, и я мысленно представил себе, как ты, твоя мама, сестра и братья весело разговариваете, смеётесь. Ты, разумеется, говоришь восхитительнее всех, твоё смуглое, оливково-загорелое лицо расплылось в сердечной улыбке, а маленькие братья отпускают шутливые замечания, над которыми все (даже твоя мама и сестра) просто не могут не смеяться.
Освещённый желтоватым светом лампы смеющийся кружок, заливающийся серебряным колокольчиком, сладкий запах цветов, стрекотание сверчка – представляя себе всё это, я пишу тебе письмо в своей душной библиотеке, обливаясь потом, поедаемый москитами. Пожалей меня!
Лето в Токио до ужаса отвратительно. Красное солнце, сверкающее, точно раскалённый добела металлический шар, струит свет и жару на иссохшую землю, которая смотрит на безоблачное небо налитыми кровью глазами. Заводские трубы, стены домов, рельсы, тротуары – все, что есть на земле, тяжело вздыхает от тяжких мучений, ниспосланных солнцем. (Возможно, тебе трудно понять, сколь отвратительно лето в Токио, и тебе смешна моя невообразимая ненависть к лету.) В этой ужасной жаре и духоте думать о поэзии, о жизни, о вечности совершенно невозможно.
Я чувствую себя летающей рыбой, упавшей, к своему несчастью, на палубу корабля и умирающей на ней. К тому же мне ужасно досаждают пыль, вонь протухшей рыбы, жужжание насекомых, страшные на вид ящерицы и самые надоедливые из всех – москиты. Короче говоря, королева лета, столь благосклонная к тебе, со мной весьма жестока.
Я читал «Юсэнкуцу», мечтая о счастливой стране, где сияет солнце и всё цветёт, где действительность превращается в восхитительную мечту, а страдания – в жизнь, полную прекрасных наслаждений. Я хочу забыть обо всем вульгарном и банальном в этой прекрасной, сказочной стране и жить жизнью, которой живут не обычные мужчины и женщины, а боги и богини под сапфирным небом этой счастливой страны, окутанной запахами белоснежных цветов груши, с поэтом этой фантазии Тёбунсэем.
Не смейся над моими детскими мечтами! Это моё маленькое королевство, где таинственная луна освещает таинственную страну. Я мечтаю день и ночь, мечтаю о цветущей розе, и в этой мечте (это моя башня из слоновой кости) я нахожу счастливую печаль, одиночество – но сладкое, покинутость – но приятную. «Голубой лотос одиночества, – сказал один из древних индийских поэтов, – распускается только в белёсой вечерней дымке фантазии, науки и искусств; и нет науки без mussen [66]». Ты можешь назвать также историю, логику, этику, философию и т. д., а в числе «искусств» – музыку и живопись. Фавны и нимфы, танцующие в залитой лунным светом долине, где цветут красные розы и жёлтые нарциссы, поют весёлые песни и играют на флейтах, а в это время седовласые, морщинистые историки и философы погружены в свои так называемые научные изыскания. Песни фавнов и исследования историков одно и то же, но есть и различие между ними: первое прекрасно, а последнее – невероятно скучно.