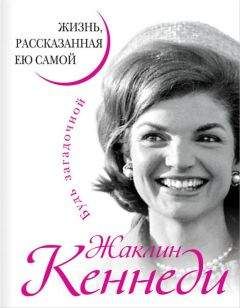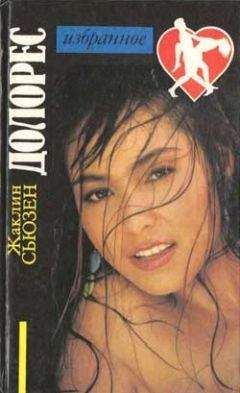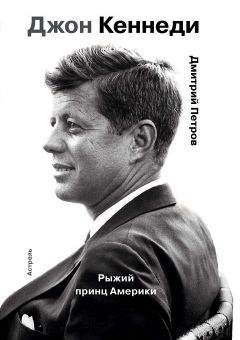Владимир Лопухин - Записки бывшего директора департамента министерства иностранных дел
В Париже утром меня встречает местный, парижский Юлиус. Тот немец. Этот француз. Опять никого из чинов посольства не вижу. Должен в это же утро ехать далее в Кале, оттуда пароходом в Дувр и из Дувра в Лондон на Виктория-стэшен. Уже беспрекословно, не расспрашивая и сам не задаваясь никакими недоуменными вопросами, сдаю вализу парижскому Юлиусу. Несет он ее в посольство прямо, или предварительно зайдя во французское Министерство иностранных дел, этого я уже не касаюсь. Переболел берлинским Юлиусом, и с меня довольно. Парижский Юлиус возвращается ко мне с еще похудевшею вализою. Отобрана почта на Париж. Сдает мне вализу и спроваживает в Кале. Кале ничего интересного собою не представляет. Довольно грязный и неряшливый порт. Сажусь на пароход. Обычно пугают беспокойным переходом из-за морского волнения со всеми неприятными последствиями. Но погода дивная. Море спокойное. Сижу на палубе. Как только скрывается на горизонте, постепенно превращаясь в тающее облачко, французский берег, тотчас с противоположной стороны выплывает едва заметная полоска английского берега. Она быстро увеличивается и вырастает в высокий, нависший над морем откос Дувра. Поднимаемся. Наверху стоят наготове два поезда по одному и тому же назначению в Лондон, но в разные части города. Настолько он велик, что эти разные его части представляют собою отдаленные друг от друга как бы разные города. Сажусь в поезд по назначению на Виктория-стэшен у Виктория-стрит. Начинается бешеная скачка. Невозможно удержать в неподвижности ног своих. Их бросает из стороны в сторону. Поезд летит так, что, кажется, скатывается в бездну. Не замедляет хода и на закруглениях пути, настолько крутых, что вы вдруг видите мчащимся сбоку паровоз вашего же поезда. Вначале, с непривычки к такой сумасшедшей скачке, мысленно готовишься к представляющейся неминуемою катастрофе. Потом уравнодушиваешься. И тупо ждешь конца мучений. Читать невозможно. Если и ног не удержать, то тем менее удержишь в руках книгу. Да из-за тряски и глаз не остановишь на строках. Но всему приходит конец. Оканчиваются и два часа безумной скачки поезда. Влетаем в Виктория-стэшен. Появляется лондонский Юлиус в виде маленького скромненького старичка. Сдаю ему вализу и багажную квитанцию. Уж вечер. Обещаю зайти в посольство завтра поутру. Юлиус рекомендует пожаловать не ранее третьего часа.
Останавливаюсь в гостинице близ Виктория-стрит. Наскоро обедаю, беру ванну и заваливаюсь спать. Встаю поздно. После завтрака и небольшой прогулки беру кеб и еду в посольство. Посла в городе нет. Застаю советника Лессара, вскоре затем назначенного посланником нашим в Китае, умного, способного, дельного. Секретарей и атташе по случаю летнего времени и отсутствия посла никого нет. Кроме Лессара один только какой-то нештатный служащий, да старичок – лондонский Юлиус. После непродолжительной беседы с Лессаром покидаю посольство с тем, чтобы уже не возвращаться. На послезавтра поутру к поезду в Дувр назначается моя встреча на Виктория-стэшен с лондонским Юлиусом, который придет меня проводить, сдаст мне вализу и отправит следующий со мною багаж.
Остаток дня и весь следующий день посвящаю прогулкам по Лондону в кебе, проезжая по лучшим улицам, объезжая парки, сады, любуясь величественными историческими зданиями, памятниками, утопающими в зелени берегами Темзы, перекинутыми через нее замечательными мостами. Погода дивная. На небе ни облачка. Не верится, чтобы этот залитый солнцем сияющий город мог в другую, осеннюю либо зимнюю пору быть ввергнут в темную ночь непроницаемых мглистых туманов.
Из Лондона в Дувр поезд несся не с тою безумною скоростью, с которою примчал меня в великобританскую столицу. В Кале я садился на английский пароход. В Дувре меня принял на борт пароход французский. Переезд совершился и на этот раз в условиях прежней прекрасной погоды. Не было ни малейшей качки. В Париже на вокзале меня встретил знакомый уже мне парижский Юлиус.
Остановился в Hotel du Helder, на улице того же наименования между бульварами des Italiens и Hausmann, в самом центре города. Хорошо пообедав и переночевав, я на следующий день отправился в посольство. Посла Моренгейма в это время в Париже не было. Он отсутствовал, как отсутствовал в Лондоне его тамошний коллега барон Стааль. Но персонал посольства был почти весь налицо. Я застал в посольстве являвшегося в отсутствие посла поверенным в делах советника Нарышкина, первого секретаря Свечина, второго секретаря графа Бреверна де ля Гарди, нескольких атташе, в числе их молодого, словоохотливого Юрьевича. Вся компания из-за жаркой погоды в одних цветных рубашках, сняв пиджаки и жилеты, сидела на лишенных малейших признаков работы канцелярских столах. Не было на них и какой-нибудь одной завалящейся бумажки. А ведь накануне к вечеру я привез кое-какие бумажки из Лондона. Впрочем, бумага, как дичь, только тогда хороша, когда основательно вылежится. И на все свое время. Припоминается рассказ посла в Вене графа П. А. Капниста. Возвращаясь как-то утром в посольство после раннего выхода из него, встречает в дверях выходящего секретаря, хотя не умного, но отнюдь не наглого Н. Н. Столыпина. Посол извлекает из кармана полученную им депешу. Останавливает секретаря и просит сделать срочное исполнение. «Милый граф, сейчас это совершенно невозможно. От 11 часов до 12 я гуляю, а сегодня собираюсь к тому же взять после прогулки ванну. Распорядился, чтобы мне ее приготовили. Когда с прогулкою, ванною и зав траком покончу, отдамся в ваше распоряжение». Дипломатические нравы были, в виде общего правила, за редкими исключениями, столь утонченно любезны, столь чужды напрашивавшегося в настоящем случае всего менее любезного внушения, что остолбенелый посол не нашелся и, промолчав, поручил срочное дело другому своему сотруднику. Так вот было и сейчас. Собрались, сели на столы. Бумагами займутся потом. Сидели, болтая ногами, перебрасываясь замечаниями о вчерашних выходах в свет, о перспективах сегодняшнего совместного выступления где-то и у кого-то. Какие это выступления, мне не объясняют. Принять участие в разговоре о совершенно чуждых мне предметах не могу. И сразу делается скучно. Экстренною работою, которая требовала бы моей помощи в усиление переобремененного состава посольства, как видно, и не пахло. Поэтому, дабы не возбудить веселья, разделить которое с приличною искренностью мне было бы трудно, я от предложения сотрудничества воздержался. Завелся у меня разговор об общих знакомых со Свечиным и Юрьевичем. Поговорили о министерстве. Затем я перешел к недавно открывшейся в Париже всемирной выставке, на которой имелся богато представленный русский отдел[157]. Выразил желание подробно осмотреть выставку, а так как двумя делами заниматься одновременно нельзя, то заявил о намерении посетить вновь посольство только к концу моего пребывания в Париже. Оставил на всякий случай свой адрес, распрощался и ушел. Они продолжали сидеть на столах и болтали ногами.
Но они все были средне-достаточно образованы, прекрасно воспитаны, хорошо вымыты, подстрижены, подбриты, умели превосходно, со вкусом одеваться. Им был привит с детства изысканно-хороший тон. При этих их свойствах и качествах принадлежность к дипломатическому корпусу открывала им все двери. В этом отношении они представляли собою в глазах ведомственных верхов определенную ценность, потенциальную силу, умелое использование которой в дипломатических целях способно было давать результаты реального значения. Предполагалось, что, имея доступ в круги, в которых делается политика, они используют при случае возможность сойтись в этих кругах на приятельскую ногу с мужчинами, сблизиться с женщинами, влиять через них на их мужей, все доступное видеть и слышать, недоступное распознавать и все понимать. Ум выше среднего и таланты редки. Здесь они были в некоторой степени представлены одним только Свечиным. Но когда и они оказывались в сочетании с теми свойствами и качествами, о которых говорено выше, то обладатель их, если у него сверх того имелись еще опыт дипломатической работы, сила воли и настойчивость, представлялся начальству дипломатом, отвечающим требованиям призвания в исчерпывающей полноте. Не всем, правда, дано столь счастливое сочетание перечисленных свойств и качеств. За всем тем и того, чем данный персонал располагал, было в глазах начальства достаточно, чтобы признать за этим персоналом право на существование в ожидании умелого использования.
* * *Париж конца прошлого столетия. Вновь выношу впечатление великолепия и красоты, сказочного богатства, доведенного до совершенства изящества и тончайшего вкуса во всех их многообразных проявлениях. И тут же вкраплены в закоулках, в боковых ответвлениях главных артерий в целых кварталах уродства, грязь, свидетельства свойственного нации неряшества, деградация, нищета. Неряшливость грязнит великолепие и центральных роскошных авеню, садов, парков, бульваров. С утра умытые, вычищенные как под скребницу, они поражают чистотою и свежестью. К вечеру повсюду выплески, плевки, мятая, рваная бумага, битое стекло, окурки, обгрызки фруктов, корки, шелуха, весь наслеженный сор пронесшихся людских потоков, превращающие Париж в громадную плевательницу. В жаркое время к вечеру со дворов несет удушливою претящею вонью свиного хлева. Но, опять, ночной Париж в спасаемых от загрязнения и дурных запахов местах общественных собраний и увеселений чарующ и великолепен. Город неги, изящества, красоты, опьяняющих и пленяющих чувства эффектов.