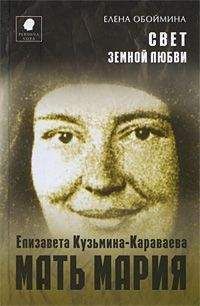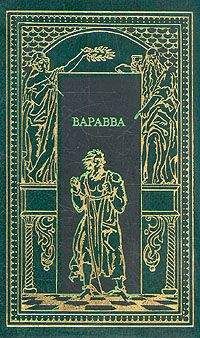Ирина Блауберг - Анри Бергсон
Понятие здравого смысла вообще очень многозначно и в силу этого может играть различную роль в философских построениях: история философии дает примеры самых разных его толкований. Здравый смысл как фиксация исторически определенного опыта, особого рода «умудренность», может рассматриваться как основа рационального постижения мира, помощник разума в борьбе с суевериями, предрассудками и т. п. (такую роль играло это понятие в философии Просвещения; вспомним и «благоразумие» в античной традиции). Но поскольку он принадлежит к области обыденного сознания со свойственной ему косностью, приверженностью к расхожим «истинам», здравый смысл часто считали лишь мнением, стихийным, а потому не достоверным, в противоположность рациональному знанию. В последнем случае здравый смысл – чрезмерное доверие к показаниям чувств, затемняющих истину: он может служить оправданием догматизма, невежества. Особенно ясно эта противоречивость понятия здравого смысла отразилась в учениях шотландской школы конца XVIII в. С представителями данной школы (Т. Ридом, Дж. Освальдом и др.), чьи идеи оказали воздействие и на сторонников французского спиритуализма, Бергсона в определенной мере роднит утверждение непосредственной внутренней очевидности и достоверности здравого смысла. Но особое значение для него имеет здесь критика «абстрактной позиции» интеллекта и соответствующей этому ориентации философии. В самом обыденном сознании он выделяет оба упомянутых выше аспекта. Тип сознания, характеризуемый пристрастием к устоявшимся, пусть даже поверхностным, но практически полезным представлениям, он обозначает термином sens commun. Именно установкам такого сознания, подвергнутого в «Опыте» критике за косность и стереотипность, противостоит bon sens, здравый смысл, о котором говорил в своем выступлении Бергсон[176].
Но в период, о котором идет речь, и первое из этих значений – уже не bon sens, a sens commun – приобрело для Бергсона особую важность, что свидетельствует о постепенном продвижении философа от позиции, занятой в «Опыте о непосредственных данных сознания», к более широкой сфере исследования. В диссертации повествование велось преимущественно на феноменологическом уровне. Но после того как отправные положения были обоснованы, требовался переход, со всем достигнутым, на иной уровень – к самой внешней реальности. Прежняя позиция исчерпала свои возможности, необходимо было двигаться дальше. Но в каком направлении? Философия предлагала здесь разные пути. Одним из них пошел Декарт, когда, столкнувшись с трудностями при дедукции реальности из сознания, привлек на помощь божественное вмешательство. Мен де Биран нашел выход в анализе чувства усилия, вызываемого сопротивлением внешней среды. «В различных вариантах, в которых эта мысль Бирана появилась у других авторов, – поясняет данный момент Б. Скарга, – Я всегда было связано с не-Я, и такая связь устанавливалась без необходимости обращения к трансценденции; именно через эту идею открывался иной выход к метафизике, чем у Декарта»[177]. Бергсон избрал свой вариант, но решение Мен де Бирана, предполагавшее изначальное единство субъекта и объекта, оказалось ему близким. Ответ на вопрос о внешней реальности ему подсказало понятие здравого смысла (sens commun), исторически связанное с концепциями реалистского плана. Теорию такого типа Бергсон и стал разрабатывать в Париже.
Столица предоставила ему гораздо больше возможностей для исследований, чем провинциальный, хотя и близкий его сердцу Клермон-Ферран. В Париже у него не только расширился круг общения – здесь к его услугам была богатая научная и философская литература, легче было следить за научными дискуссиями.
Готовясь к лекциям, Бергсон начал глубже, чем раныпе, изучать греческую философию, в особенности Платона и стоиков, «Метафизику» Аристотеля, учение Плотина. А. Юд, исходя из анализа лекций, высказал предположение о том, что именно Аристотель и стоики, наряду с Плотином и Лейбницем, стали для Бергсона в этот период важнейшими точками опоры. И эта гипотеза вполне подтверждается конкретными текстами. Из лекций, прочитанных Бергсоном в 1894–1895 гг. в лицее Генриха IV, для нас особенно интересны курс по истории греческой философии и изложение теорий души, охватывающее период от Гомера до Лейбница. В первом из названных курсов отчетливо виден тот источник, который в эту пору стал для Бергсона особо значимым, – философия стоиков. Именно ей он отводит здесь особенно большое место, подробно рассматривая разные части учения стоиков – физику, учение о Боге и человеке, логику и этику. Он подчеркивает их стремление сблизить идеи Аристотеля со взглядами предшествующих философов, главным образом Гераклита, а также преодолеть накопившиеся в философии противоречия между духом и материей, душой и телом, волей и инстинктом[178]. Особое внимание Бергсон обращает на почерпнутую стоиками у Гераклита идею постоянно присущего универсуму ритма напряжения и расслабления, в чем и выражается гармония космоса. Он рассматривает, как проявляется эта идея в учении о природе, где все тела представлены как отличающиеся большей или меньшей степенью напряжения, а телесные качества отображают различные степени напряжения и ослабления одного первичного принципа, огня, который в понимании стоиков есть божественное дыхание, пневма[179], усилие, порождающее все вещи. Этот огонь есть для стоиков сам Бог, действующая, активная сила, и материя возникает из него вследствие одного уменьшения его напряжения. В интеллектуальной сфере высшее усилие, высшая степень напряжения – знание; разум достигает этой степени путем синтеза прошлого и настоящего. Если говорить о человеке, то и у него между душой и телом существует только различие в степени напряжения, концентрации, поскольку душа есть активное начало, а тело – пассивное. Наконец, тот же принцип господствует, как отмечает Бергсон, в этике, в области морали, где добродетель есть внутреннее усилие, доведенное до предела и направленное на то, чтобы жить в согласии с Богом, «существующим в каждом из нас… то есть с душой, со всеобщим началом» (р. 131). Поэтому идеал мудреца – возвращение к состоянию наивысшего напряжения душевных сил, к чистой активности, выражаемой понятием логоса.
Все очень важно в этом изложении Бергсона, если мы хотим уяснить истоки его концепции, представленной в «Материи и памяти», и понять саму концепцию, – и идея напряжения, усилия, и связанное с ней представление об иерархической структуре универсума, обусловленной разными степенями напряжения[180], и соотнесение этого с душевной жизнью человека. Именно эти темы станут ведущими во всем дальнейшем творчестве Бергсона.
Относящиеся к тому же периоду лекции о теориях души свидетельствуют об интересе Бергсона к психофизической, или психофизиологической, проблеме и трактовкам ее в античности и в Новое время (Бергсон, правда, отвел ей значительное место и в более ранних лекциях, предшествовавших «Опыту», наметив тем самым линию дальнейших исследований). Изложив особенно подробно учения Аристотеля и Плотина, он делает вывод о том, что античные философы, четко разделив активное начало – душу – и тело, которое она одушевляет, не пытались объяснить механизм их взаимного воздействия; они и не могли, по Бергсону, поставить эту проблему, пока не были в достаточной мере выделены и определены понятия влияния, воздействия, каузальности, а помимо того, не были выявлены «точные условия того, что мы называем научным объяснением»[181]. Декарт сформулировал проблему взаимодействия души и тела, но их союз остался у него необъясненным. Не следует ли, задается вопросом Бергсон, пойти в этом направлении дальше Декарта? Ведь последователи Декарта «все больше и больше заменяют реальное воздействие параллелизмом, который – будь то необходимый параллелизм [имеется в виду Спиноза] или предустановленная гармония, – в обоих случаях исключает ту подлинную, действенную свободу, с ее поистине непредопределенными следствиями, в которую верил Декарт»[182]. Из новоевропейских концепций души Бергсона преимущественно интересует в это время, как явствует из лекций, учение Лейбница – он уделяет ему куда больше внимания, чем всем остальным. Он рассматривает психофизический параллелизм Лейбница, учение о предустановленной гармонии, теорию восприятия, останавливаясь на лейбницевском определении восприятия как «выражения многого в одном» и на учении о малых, неотчетливых восприятиях. Но и Лейбницу, объединившему и примирившему в учении о душе и ее отношениях с телом взгляды своих предшественников, не удалось, по мнению Бергсона, спасти свободу, предполагающую индетерминацию и случайность, поскольку идея взаимодействия души и тела теряется у него в конечном счете в идее предустановленной гармонии.