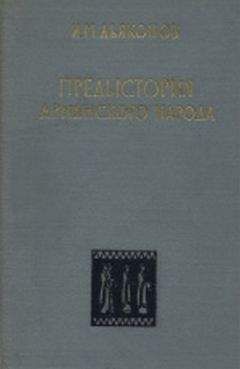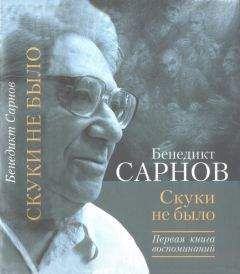Игорь Дьяконов - Книга воспоминаний
Я познакомился по-настоящему со своим дедом в 1926 году, когда все великолепие, сохранившееся из его двенадцатикомнатной квартиры — шкафы черного дерева, уродливые резные буфеты «модерн» со столбиками, красные мягкие кресла, дубовый письменный стол, прабабушкины картины в золоченых рамах, сундуки, шкатулки, картины Бакста, иконы с тлеющими лампадками — тесно столпилось в его теперь всего только четырех комнатах на проспекте Карла Либкнехта. Здесь жили с ним бабушка Ольга Пантелеймоновна — не седая, а только седеющая, все такая же прямая, благообразная, белотелая, с такой же громадной прической на затылке — и еще дочь, громогласная тетя Вера.
Дамы всячески подчеркивали, что дедушка — глава семьи; дом замирал, когда он ложился отдохнуть; по вечерам, затаив дыханье, слушали, как дедушка читает вслух старинные романы, — он числился замечательным чтецом. И сам дедушка держался строгим хозяином. Но на самом деле он был совершенно под башмаком у своих дам.
Не реже, чем раз в неделю, я должен был являться с официальным визитом «к Дьяконовым». Было довольно неуютно. Я вес время боялся, что не так сяду, не так встану — мои манеры постоянно подвергались критике. Нужно было есть грандиозные обеды — бабушка была неповторимая мастерица кухонного искусства; когда производился какой-нибудь кулинарный шедевр, с кухни изгонялась даже тетя Вера — производственный процесс держался в полной тайне. Эти тайны свои она так и унесла в могилу. Нигде и никогда я больше не ел таких пирогов, пирожков, пельменей, готовившихся по сибирскому рецепту — выставлявшихся на балкон, на мороз; съесть менее пятидесяти пельменей значило нанести бабушке смертельную обиду: сто малюсеньких пельменей было нормальной порцией для мужчины, а хороший мужчина съедал и по сто пятьдесят.
Тетя Вера меня занимала рассказами или карточной игрой, но я с нею чувствовал себя неловко: я знал, что она в смертельной вражде с моей матерью, и боялся оказаться нелояльным по отношению к маме, которая была важнее, чем тысяча теть.
Дедушка ко мне относился хорошо, охотно отвечал на мои вопросы, разговаривал со мной, научил меня стихотворению Мицкевича по-польски, когда мы как-то раз с ним заспорили и заговорили о разных языках. В это время ради своих сыновей он в свои шестьдесят шесть лет зубрил по самоучителю норвежский и голландский языки.
Алексей Николаевич был уже очень давно далек от науки, от математики, которую он когда-то избрал, от интересов своих студенческих лет и от студентов-товарищей. Каким он сделался? Мне это очень трудно сказать. Я слышал о нем только от жены и дочери и, конечно, слышал только то, что он был умный и добрый, что все, даже швейцары, его любили. Я могу только догадываться, но я знаю, что в нем была не только мягкость. К жизни от относился по-деловому, без сентиментальности. Чем ни увлекались его дети, — отец мой тянулся к морскому делу, тетя Вера тянулась к серьезной жизни медичек, — сыновья должны были получить образование, нужное для экономиста и финансиста, дочь должна была войти в семью делового человека. Для себя он оставлял вечера, занятые изучением языков, — без особой цели, просто как упражнение ума, иначе зачем ему было в Ташкенте учиться по-узбекски, брать уроки у какого-то неумного муллы, который сочинял нелепые фразы-упражнения, пародирующие самоучители Марго или Оллендорфа: «в моей сегодняшней брюке вчерашняя змея?» Вряд ли ему для дела приходилось говорить хоть с одним узбеком. Дед мой много читал — и читал хорошую литературу, на многих языках. Но образ жизни определялся вкусами и понятиями Ольги Пантелеймоновны, понимавшей только внешнее, показное преуспеяние — и мебель, и картины, и одежда должны были быть добротные и, прежде всего, дорогие; горничные должны были быть в накрахмаленных наколках, и говорилось им, конечно, только «ты». Была Ольга Пантелеймоновна пресной умом — и, наверное, и телом; для души у Алексея Николаевича были книги, языки, заграничные путешествия; какого отдохновения искал он для тела? Мне смутно помнится, что я откуда-то знаю про его любовниц, а может быть, это мне снится. После его смерти осталась библиотека порнографической литературы, которая позволила мне изучить впоследствии нецензурные слова на пяти европейских языках; книги в великолепных переплетах из сафьяна с золотым тиснением и из белой кожи, с красными и золотыми обрезами, — романы, драмы, стихи, дидактические сочинения для юношей, посвященные половым сношениям нормальным, мазохистическим, садистическим, утонченным. Бабушка, не знавшая ни одного иностранного языка, свято хранила эти книги, считая их дорогими изданиями классиков мировой литературы; впоследствии они достались моей маме, и она велела мне их сжечь.
Но глубокие знания, собранные за полстолетия жизни моим дедом на вершинах и в ямах европейской культуры, были только балластом для заполнения досугов ума и чувственности, которых не могла заполнить сущность жизни, росшая только на почве расходных книг; познание добра и зла, созданного человечеством, было для досуга, но не это было главное и нужное в жизни; главное, как видно, было дело, создававшее ценность благосостояния; или, даже без такого осмысления — но просто надо было заниматься делом, быть деловым человеком. Он был строгим отцом, строгим начальником, был за порядок в жизни и в доме — а втайне от жены дозволял себе быть в одних обстоятельствах человечным, мягким и щедрым, в других — чувственным. Жизнь увела его от товарищей юности; но, несмотря ни на что, и он сохранял такую же, как у них, страсть к познанию, — только для них эта страсть была не делом пустого досуга, а самим содержанием жизни. На фоне той жизни, какой посвятил себя мой дед, его прежние товарищи выглядели учеными чудаками. Но, может быть, он завидовал им посреди блестящих просторов своих зал и гостиных?
Когда-то он был интересный и внимательный собеседник; его любила моя строгая тетя Женя, но прежняя жизнь, о которой он мог бы рассказать, ушла в прошлое. Теперь, когда на старости лет он тащил нисколько не вдохновлявшую его лямку советской службы, содержание его стариковской жизни все более наполнялось размеренным ходом домашнего быта, чтением Диккенса вслух по вечерам, книгами и воспоминаниями о книгах. В отличие от своей жены и дочери, он не был снобом. Он много думал о событиях жизни; ему было интересно жить хотя бы тем, что приносили в своих рассказах, устно и в письмах, его сыновья о жизни в нашей и в других странах. Он не был ожесточен, не замыкал свой ум в непонимании новой России, с интересом слушал своего двенадцатилетнего внука, спорившего с ним о советской власти и справедливости.
Мне нравились его добродушный вид, редкий, мягкий, седой остаток студенческого ежика на круглой голове, золотые очки, почтенные усы, округлый живот, мелкая старческая походка; я не хотел думать о том, что он сек ремнем своих детей — одно из тяжелейших преступлений, какие только, в моих глазах, мог совершить взрослый. Папа был чем-то на него похож — по крайней мере все так говорили, — вероятно, голубыми глазами и светлыми, почти несуществующими, мягкими бровями; но эти глаза могли быть у дедушки колючими и суровыми, — как, например, тот раз, когда он выговаривал мне: я сказал моим родителям, будто дедушка меня за что-то «ругал», а «ругать» значит называть нехорошими словами, он же, дедушка, меня «бранил».
Я по поводу этого выговора с дедушкой поспорил, уверяя его, что «ругать» новее не обязательно значит ругаться нехорошими словами. Тогда он вытащил словарь Даля и доказал мне, что «ругать» действительно имеет такое значение. Я сказал ему: «А посмотри на «бранить». — К смущению дедушки, дефиниция слова «бранить» ничем не отличалась от определения слова «ругать». Кажется, я позволил себе сказать дедушке, что язык меняется от поколения к поколению.
В доме дедушки говорили по-старинному и по-сибирски: не «теперь», а «ныне», не «валенки», а «пимы»; милиционер был для бабушки все еще «городовой».
Дедушкины дети были каждый на свой образец. О старшем — дяде Коле, том самом, который твердо усвоил, что земля кругла, — я знал только понаслышке да по фотографиям красивого, седеющего человека в тропической белой одежде и старинном пенсне. Историю его я узнал позже. Николай Алексеевич был в Алексея Николаевича остро талантлив, но, в отличие от отца, не считал своим долгом применять свои таланты к чему бы то ни было. Получив кое-как высшее образование, он служил где-то в банке — кажется, довольно номинально, — и позволял за собой ухаживать баряшням. Много времени он проводил в доме двух молоденьких баронесс Тизенгаузен, которые были в него без ума влюблены — так и тянулось время, пока одна из них не родила ему сына Алешу. Так дядя Коля стал семьянином, но оформить свой брак ему было недосуг, и Алеше было уже лет восемь, когда, наконец, уходя в армию по призыву, он обвенчался со своей Ольгой Густавовной. Это не мешало ей с самого начала быть принятой «у Дьяконовых» — Коленька был у дедушки любимое дитя, а родство — хоть и незаконное — с баронессой льстило Ольге Пантелеймоновне.