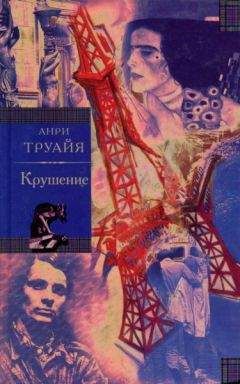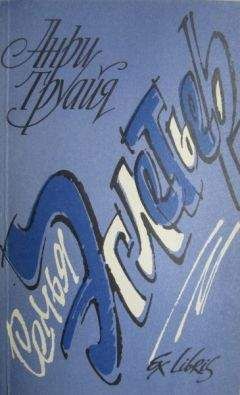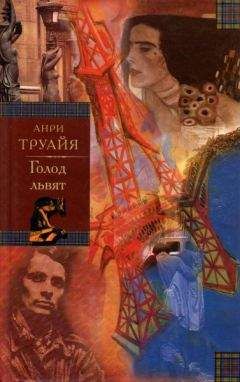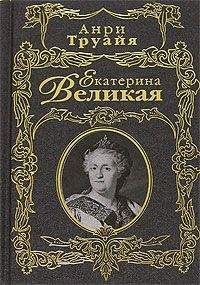Алевтина Кузичева - Чехов. Жизнь «отдельного человека»
Узнав, что сестра и жена нашли новую квартиру с подъемником, он пошутил: «Если есть лифт, то это очень хорошо, но на мое счастье лифты всегда портятся; как мне подниматься, так лифт починяется». Шутил ли он, когда писал в эти же мартовские дни: «Если в конце июня и в июле буду здоров, то пойду на войну, буду у тебя проситься. Поеду врачом»? Или когда уверял жену: «Здоровье мое хорошо, московский климат, очевидно, поправил меня»? Это письмо от 10 марта 1904 года он закончил словами: «Тебе такого бы мужа надо, чтобы бил тебя каждый день, а со мной хоть разводись, я никуда не годен». В них слышалась какая-то усмешка, будто взгляд с другой стороны, откуда уже нет возврата.
Ощущалось, может быть, то, что он пережил в 1889 году, ухаживая за умиравшим братом Николаем, и что потом опосредованно отозвалось в повести «Скучная история», которую он писал тогда же. Вопреки признаниям в письмах тех дней: «Человек я малодушный, не умею смотреть прямо в глаза обстоятельствам» — Чехов единственный в семье не дерзко, но прямо посмотрел в глаза обстоятельствам.
Некоторые симптомы неизлечимого недуга, ощущения человека, знающего, что он обречен и конец близок, Чехов передал, рассказывая о самочувствии героя «Скучной истории». Одно из них — это страх, что ему не удается встретить смерть по-христиански: без уныния, «со спокойной душой». Человек, которого, по его словам, не разрушили «такие житейские катастрофы, как известность, генеральство, переход от довольства к жизни не по средствам, знакомства со знатью и проч.», стал рабом злых чувств. И задался вопросом: откуда такая перемена? От краха каких-то представлений? Или от болезни? От мыслей, что через полгода он умрет, что судьба уже «приговорила к смертной казни»?
Однажды, летней «воробьиной ночью», ужас смерти разгорелся как «громадное зловещее зарево». Старый профессор, не желавший показываться коллегам-врачам, лечивший себя сам, посмотрел в глаза рока. Ни известное имя, ни радость от занятий любимой наукой, ни душевная воспитанность («Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня») — ничто, как он понял, не помешает ему умереть.
В другую ночь, в чужом городе, в гостинице, одинокий, Николай Степанович с усмешкой отвечал сам себе на свои вопросы: «Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Я известен, мое имя произносится с благоговением, мой портрет был и в „Ниве“ и во „Всемирной иллюстрации“, свою биографию я читал даже в одном немецком журнале — и что же из этого? <…> Допустим, что я знаменит тысячу раз <…> во всех газетах пишут бюллетени о моей болезни, по почте идут уже ко мне сочувственные адреса от товарищей, учеников и публики, но всё это не помешает мне умереть на чужой кровати, в тоске, в совершенном одиночестве… В этом, конечно, никто не виноват, но грешный человек, не люблю я своего популярного имени. Мне кажется, как будто оно меня обмануло».
Профессору думалось, что болезнь, страх смерти и домашние обстоятельства поработили его потому, что в его мыслях, чувствах, желаниях не было чего-то «главного, чего-то очень важного <…> чего-то общего, что связывало бы всё это в одно целое». Не оказалось того, «что называется общей идеей, или богом живого человека».
И умный, добрый, так стремившийся познать себя человек сказал: «А коли нет этого, то значит, нет и ничего. <…> Я побежден. Если так, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидеть и молча ждать, что будет».
Критика тогда, в 1889 году, сразу подхватила слова профессора об «общей идее, или боге живого человека» и муссировала долгие годы. Одни толковали их как отсутствие у героя религиозной идеи. Другие — как его крах в поисках смысла жизни. Полагали, что это признак эпохи безвременья, крушения идей 1860-х годов и т. д.
Говорили, что в этих словах тоска самого Чехова по идеалу, а быть может, его меланхолия. Его корили за то, что он замахнулся дать «общую идею» и не смог. Даже считали, что если спросить у автора «Скучной истории», что такое «бог живого человека», то он не ответил бы. Наверно, это была тайна, которая уже при появлении повести поразила современников, но так и оставалась неразгаданной. Шли годы, предлагались всё новые толкования. В 1900 году один из критиков счел «Скучную историю» центром всего написанного Чеховым и поставил свой диагноз болезни героя. Он якобы в процессе самопознания убил инстинкт жизни, погасил холодным дыханием логики «очаг» живого в своей душе. Но самому Чехову, по мнению этого критика, подобное не грозило. Его спасли дар сомнения и скорби, чувство света и красоты.
В финале повести старый профессор спрашивал себя, чего он хочет: «Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не фирму и не ярлык, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять… Дальше что? А дальше ничего».
Чего хотел автор «Скучной истории» теперь, спустя годы, наблюдая у себя ту же слабость, одышку, что когда-то у брата Николая?
Купить или снять дачу под Москвой, чтобы уехать из Ялты. Отправиться врачом на войну. Написать рассказ для «Русской мысли». Наладить в спектакле «Вишневый сад» в Художественном театре «звук лопнувшей струны», которым был недоволен, как когда-то и звуками «Чижика» в спектакле «Иванов» в Александринском театре.
Что хотя бы из этого было исполнимо? Или всё мечтания — всё то же «насмешливое счастье»?
В те дни, весной 1904 года, Чехов, как вспоминал Альтшуллер, «чаще бывал молчалив, сосредоточенно задумчив, и он, никогда раньше не жаловавшийся на здоровье, говорил, что устал, что хочет по-настоящему отдохнуть, набраться сил»: «Все чаще заставал я его сидящим в кресле или в нише на диване, без газеты, без книги в руках».
Что-то из того времени удержала память Миши, племянника Чехова. Он, тогда подросток, приехал с родителями в Ялту. Часами сидел в кабинете ауткинского дома, рассматривая то, что лежало на письменном столе. Чехов догадывался, что нравилось мальчику, и отдавал. Однажды, выйдя к чаю, Чехов вдруг сказал: «Ложка собакой пахнет». Евгения Яковлевна стала уверять, что посуду в кухне моют хорошо. Юный гость догадался — сцена была разыграна для него: «Я закатился смехом и видел, как Антон Павлович, как бы исподтишка, улыбаясь глазами, поглядывал на меня».