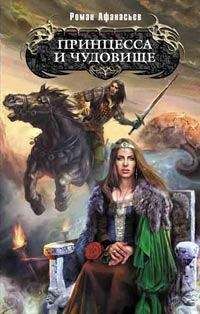Джованни Казанова - История Жака Казановы де Сейнгальт. Том 3
Нас было восьмеро в этом экипаже, названном по имени Дилижанта, мы все сидели, но все неудобно, он был овальной формы, никто не занимал угла, потому что в нем не было углов. Я счел это неразумным, но ничего не сказал, так как в качестве итальянца должен был находить все, существующее во Франции, восхитительным. Овальный экипаж! Я уважаю моду и проклинаю ее, потому что странное движение этого экипажа заставило меня вырвать. Он был слишком хорошо подвешен. Тряска беспокоила бы меня меньше. При быстром движении по хорошей дороге он колыхался; по этой причине его иногда называют гондолой, но настоящая венецианская гондола, ведомая двумя гребцами, идет ровно и не вызывает тошноты, от которой вздрагивает сердце. У меня кружилась голова. Это быстрое движение, которое сотрясало понемногу мое нутро, вынудило меня наконец отдать все, что у меня было в желудке. Меня нашли плохой компанией, но мне этого не сказали. Ограничились тем, что сказали, что я слишком обильно ужинал, и аббат парижанин в мою защиту сказал, что у меня слабый желудок, и кто-то с ним поспорил. Раздосадованный, я заставил их заткнуться, сказав:
— Вы оба ошибаетесь, потому что у меня превосходный желудок, и я не ужинал.
Мужчина среднего возраста, ехавший с мальчиком двенадцати-тринадцати лет, сказал мне слащавым тоном, что я не должен говорить этим месье, что они ошибаются, но что они неправы, подражая Цицерону, который не сказал римлянам, что Катилина и другие осужденные мертвы, но что они отжили свое.
— Разве это не одно и то же?
— Прошу прощения, месье, но первое — невежливо, а второе — вежливо.
Он произнес затем превосходную диссертацию о вежливости, которую завершил, сказав мне, смеясь:
— Держу пари, что месье итальянец.
Да, но осмелюсь вас спросить, как вы догадались?
— Ох! Ох! По вниманию, каким вы почтили мою долгую болтовню.
Вся компания расхохоталась, и я стал задабривать всячески этого оригинала, который был гувернером молодого человека, сидящего рядом. Я использовал его все пять дней, получая у него уроки французской вежливости, и когда мы должны были разъехаться, он отозвал меня в сторонку и сказал, что хочет сделать мне небольшой подарок.
— Какой?
— Надо забыть и выкинуть из лексикона частицу «Нет», которую вы используете немилосердно вдоль и поперек. Нет — это не французское слово. Говорите «Пардон», это будет означать то же самое, и не будет шокировать. Нет — это саморазоблачение. Оставьте его, месье, или приготовьтесь в Париже хватать поминутно шпагу в руку.
— Я благодарю вас, месье, и обещаю в жизни не говорить больше слова «Нет» .
Мне показалось, в начале моего пребывания в Париже, что я стал самым виноватым из людей, потому что то и дело просил пардону . Мне показалось даже однажды, что я вызвал ссору, попросив его некстати. Это было в комедии, когда некий щеголь случайно наступил мне на ногу.
— Пардон, месье, — живо сказал я ему.
— Это вы меня простите.
— Нет, вы.
— Нет, вы.
— Ладно, месье, извинимся оба и обнимемся.
Так закончился наш диспут.
Однажды, когда я довольно неплохо дремал в вертикальном положении в быстро мчавшемся дилижансе-гондоле, меня встряхнул мой сосед, чтобы разбудить.
— Что вам надо?
— Ах, месье, пожалуйста, взгляните на этот замок.
— Я вижу его. Невелико дело. Что вы находите такого замечательного?
— Ничего, если не учитывать, что мы находимся в сорока лье от Парижа. Мои соотечественники сочтут меня зевакой, если я расскажу им, что видел такой прекрасный замок в сорока лье от столицы. Каким можно быть невеждой, если хоть немного не попутешествовать!
— Вы абсолютно правы.
Этот человек был парижанин, ротозей в душе, такой же, как галлы во времена Цезаря. Но если парижане глазеют по сторонам с утра до вечера, любуясь всем подряд, то иностранец, вроде меня, должен быть намного большим зевакой, чем они. Разница между мной и ими состояла в том, что, стараясь увидеть вещи такими, как они есть, я поражался, видя их в маске, изменяющей их природу, в то время как их удивление происходило часто от стремления разглядеть то, что под маской. Меня поразила красота магистралей — бессмертное творение Людовика XV, опрятность гостиниц, их стол, быстрота обслуживания, прекрасные постели, приличный вид прислуживающего за столом персонала, часто состоящего из домашних хозяина, вид, опрятность и манеры которого способны были обуздывать вольности гостей. Найдется ли у нас в Италии кто-нибудь, наблюдавший с удовольствием слуг в наших гостиницах, с их наглым видом и дерзостью? Все это в те времена было во Франции достойно похвалы. Франция была страной иностранцев. Стала ли она теперь страной французов? Было неприятно наблюдать часто проявлявшийся отвратительный деспотизм приговоров. Это был деспотизм короля. Мы видим теперь безудержный, кровожадный, неукротимый народный деспотизм, который собирает толпы, вешает, отрубает головы и убивает, деспотизм тех, кто, никогда не быв народом, смеет говорить от его имени.
Мы заночевали в Фонтенбло и, за час до прибытия в Париж, увидели берлину, приехавшую оттуда.
— Вот моя мать, — воскликнул Баллетти, остановитесь, остановитесь.
Мы вышли и, после обычных нежностей между матерью и сыном, он меня представил, и мать, знаменитая актриса комедии Сильвия, сказала мне приветливо:
— Надеюсь, месье, что друг моего сына соблаговолит отужинать с нами сегодня вечером.
Сказав это, она снова уселась в свою коляску вместе с сыном и дочерью, которой было девять лет. Я поднялся в свою гондолу.
По приезде в Париж, я встретил слугу Сильвии с фиакром, в который он все погрузил и отвез меня в жилье, которое я нашел весьма удобным. Перенеся туда мой багаж и все мое имущество, он отвел меня к хозяйке, обитавшей в полусотне шагов оттуда. Баллетти представил меня своему отцу, Марио, встающему после болезни. Имена Марио и Сильвия были их сценические имена, под которыми они выступали в комедиях. Французы никогда не дают итальянским комедиантам вне дома других имен, кроме тех, под которыми их знают по театру. «Добрый день, месье Арлекин, добрый день, месье Панталон», — говорят в Пале-Рояле тем, кто играет этих персонажей.
Глава VIII
Мое ученичество в Париже. Зарисовки. Странности. Тысяча вещей.
Сильвия отпраздновала приезд своего сына, созвав к себе на ужин своих родственников. Я был счастлив, что, приехав в Париж, смог с ними познакомиться. Марио, отец Баллетти, не вышел к столу, поскольку выздоравливал, но я познакомился с его старшей сестрой, сценическое имя которой было Фламиния. Она известна в области литературы, благодаря нескольким переводам; но мне особенно захотелось познакомиться с ней поглубже из-за истории, известной всей Италии, о пребывании в Париже трех знаменитых людей. Это были маркиз Мафиеи, аббат Конти и Пьер-Жак Мартелли. Они стали врагами, как говорят, из-за того, что каждый претендовал на благосклонность этой актрисы, и, как люди ученые, они сражались на перьях. Мартелли создал сатиру на Мафиеи, которого по анаграмме назвал Фемиа. Поскольку я был представлен Фламинии как кандидат в республику литературы, эта женщина сочла своим долгом почтить меня собеседованием. Я нашел ее неприятной по внешности, тону, стилю и даже по ее голосу; она им не говорила, но, давая понять, что она — знаменитость в республике литературы, говорила со мной как с букашкой, она как бы диктовала истины и полагала, что имеет на это право в свои семьдесят лет перед мальчишкой двадцати пяти лет, который еще не обогатил ни одной библиотеки. Чтобы поддержать беседу, я заговорил об аббате Конти и, к слову, процитировал два стиха этого человека глубокого ума. Она поправила меня добродушно на слове scevra, означающего отделенный, которое я произнес со звуком «в» согласным. Она сказала, что нужно здесь произносить как гласный «u», и что мне не следует сердиться, получая этот урок в первый же день своего пребывания в Париже.