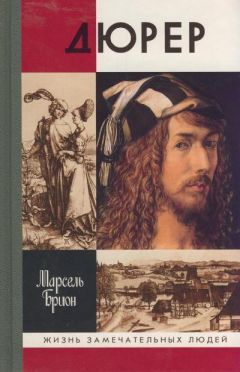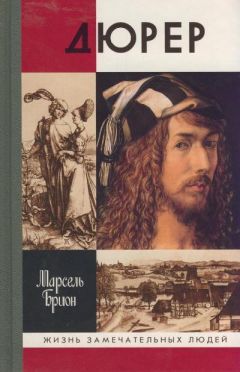Марсель Брион - Дюрер
Дюрер увлекался чтением. Он интересовался античной литературой, и его общение с местными гуманистами позволило ему узнать много прекрасных и оригинальных мифов. Его друг детства Вилибальд Пиркгеймер был известным эрудитом, с удовольствием демонстрировал свои глубокие познания, цитируя странные тексты, таинственные и аллегорические, из старинных книг. Именно этому общению с высокообразованными людьми Дюрер обязан большей частью своих познаний в литературе, особенно касающейся эпохи Античности. На самом деле, античная эпоха оставалась чуждой его духу и темпераменту. Дюрер читал гораздо чаще Библию, чем Георгики Вергилия или Одиссею Гомера. Насколько он чувствовал себя уверенным в сверхъестественной атмосфере Апокалипсиса, намного более фантастичной, чем могла бы вообразить античная литература, настолько он выглядел неумелым, тяжелым, малопонятным, когда он приступал к сюжетам языческих сказок.
Его аллегории были настолько неясные, что комментаторы могли свободно фантазировать и подчас давать им наиболее противоречивую интерпретацию. Но нас интересует прежде всего то, что они могли означать для самого Дюрера, а не то, что могут открыть в них изобретательные философы, способные окружить тайну туманом, которого и без того достаточно в этих аллегориях. Сюжет гравюры Большая фортуна не относится к числу тех, которые были наиболее важными для художника. Но проблема литературы никогда и не была для Дюрера первостепенной. Первой, наиболее важной была проблема пластики. В Большой фортуне, например, нужно было связать горный пейзаж, типичный для Баварии или Тироля, с появлением на небесах крупной обнаженной женщины, как-то согласовать это удивительное появление со знакомым видом деревни, окруженной лесами и озерами. Чтобы сохранить равновесие этой фортуны на шаре, с которого она соскальзывает, он прикрепил к плечам этой пышнотелой матроны крылья орла, трепещущие на ветру авантюры. Что символизируют узда и чаша в ее руках? Следует ли назвать Немезидой, как предлагают некоторые, эту нюрнбергскую бабу, вызывающе обнаженную, без стыда выставляющую на показ свой громадный живот и массивные ляжки? О какой идеальной красоте итальянцев можно говорить, глядя на эту мифологическую фигуру? Для Дюрера аллегория и элемент идеала, который она несет, — не более чем аксессуар, вроде удил и чаши, которые он, между прочим, изобразил с виртуозным мастерством ювелира. То, что существенно, — так это плотская реальность этого некрасивого тела, интенсивная жизненность местности, над которой пролетает «богиня», биение ее крыльев, которые он настолько тщательно изучал в природе, что можно было бы даже сказать, какие рисунки послужили ему эскизом.
Большая фортуна — это произведение мощного натурализма, на который наслаивается замысел, практически не производящий эффекта, настолько объективность формы как таковой остается подавляющей. Но у Дюрера мифологические персонажи не совсем реальные, в то же время достаточно убедительные, чтобы создать свою собственную атмосферу. Большая фортуна парит в пустоте, в необитаемом пространстве, без плотности и глубины, которое делает еще более разительным контраст с настолько жизненным пейзажем, расположенным внизу. Нет никакой связи между пейзажем и аллегорической фигурой — они принадлежат двум совершенно разным, никак не совместимым мирам. Эти два мира как бы наслаиваются один на другой, разделенные скорее моральным, чем материальным барьером, в котором нельзя обнаружить даже трещины. Фигура не оживляет пейзаж; они настолько отделены друг от друга, что кажется, что составлены из половинок различных гравюр.
Эта целостность, которой так недостает в мифологических гравюрах, напротив, блестяще реализуется в композициях, посвященных реальной жизни или религиозным сюжетам. Две знаменитые гравюры — например, Малый конь и Большой конь, обе относящиеся к 1505 году, — это замечательные этюды с натуры. Замок в руинах и солдат в экстравагантных доспехах не ослабляют натуралистического накала этих композиций. Пытались безуспешно найти прототип Малого коня в квадриге из бронзы, которую Дюрер видел на площади Святого Марка в Венеции. Важно не то, что это реалистическое изображение коня могло быть вызвано воспоминаниями о путешествии, а тот потенциал жизненной силы и индивидуальности, который делает коня словно живым, причем это не просто конь, а именно какой-то определенный конь.
Можно отметить некоторую параллель между Дюрером и Рембрандтом: и тот и другой — выходцы из религиозных семей, которым, естественно, была чужда языческая мифология. Оба художника, глубоко религиозные и способные чувствовать сверхъестественное, настолько проникали в сущность любого предмета в окружающем их объективном мире и изображали его настолько полным жизни, что он приобретал почти сверхъестественные свойства. Так, Святой Георгий, тоже относящийся к 1505 году, — это потрясающий портрет воина, несмотря на ореол и поверженного дракона, так же как Малый конь и Большой конь — блестяще выполненные портреты лошадей.
Неспособный найти соответствующую форму для мифологического сюжета, Дюрер мастерски справляется с задачей, когда перед ним какой-либо объект как таковой, который следует изобразить максимально правдоподобным и живым. Не добавляя никаких дополнительных или экзотических элементов, он раскрывает сущность изображаемого объекта во всей его красоте. Огромную любовь к животному, и не просто к животному вообще, а конкретно к этому животному, излучают его портреты лошадей, настолько сильно они индивидуализированы — зрительно и осязательно. Ограниченные возможности белого и черного достигают здесь поистине симфонической полноты в передаче цветов, материалов, даже запахов до такой степени, что изображаемый предмет кажется едва ли не более живым, чем сама модель. То же можно сказать и о Блудном сыне, написанном несколько ранее с такой потрясающей выразительностью, с такой трогательной нежностью и чувством единения художника с изображаемым миром.
Это понимание и восприятие реальности, глубокое проникновение в ее сущность, приводят иногда к своего рода романтическому слиянию объекта и человека, которые практически растворяются друг в друге. Подобное смешение было идеалом Романтизма на рубеже XVIII и XIX веков, а также на рубеже XV и XVI. Начиная с 1500 года, Дюрер вырабатывает романтическую концепцию пейзажа. Заход солнца 1495 года (Британский музей) принадлежит к серии акварелей, выполненных во время путешествия, в которых эмоции молодого человека переданы с лирической краткостью, полной поэтического излияния; но они не являются исключением среди многочисленных пейзажей документального характера. К 1500 году и вплоть до второго путешествия в Венецию все чаще появляются романтические пейзажи, чаще в виде эскизов, акварелей, как, например, Дворец на берегу (Музей Бремена) или рисунок пером в Кабинете эстампов Берлина, где изображены два отшельника, беседующих в лесу, или просто в виде декорации в композициях, где пейзаж не является главной составляющей, но в то же время задает определенную тональность, музыкальность, гармонию.