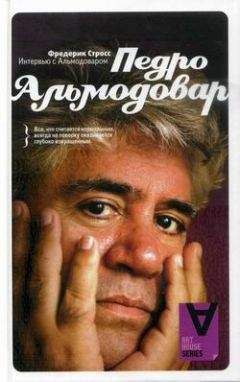Вадим Вацуро - «Северные цветы». История альманаха Дельвига — Пушкина
Рецензия осталась ненапечатанной, — быть может, потому, что Вяземский в «Московском телеграфе» успел сказать многое из того, что намеревался говорить Пушкин[161].
Пушкин ничего не имел собственно против «Северной лиры», но его не удовлетворяло, что альманахи сделались представителями нашей словесности.
Когда в 1827 году Погодин вознамерится продолжить «Уранию», Пушкин напишет ему взволнованное и негодующее письмо. «Вы, издатель европейского журнала в азиатской Москве, Вы, честный литератор между лавочниками литературы, Вы!.. Нет, вы не захотите марать себе рук альманашной грязью»[162].
Альманах — дело коммерческое; журнал — дело литературное.
Дельвиг узнал об освобождении Пушкина одним из первых в Петербурге и ездил вместе с Левушкой оповещать общих знакомых.
Он рассказал о счастливой новости Козлову, Гнедичу, Анне Николаевне Вульф, Сленину и поспешил обрадовать письмом Прасковью Александровну Осипову. Обо всем этом он сообщил Пушкину, умоляя его не молчать и написать сейчас же родителям.
Среди всего этого радостного возбуждения он должен был, однако, помнить и о делах. Пушкин был в Москве, и Дельвиг просил его подумать о «Цветах» вместе с Вяземским и Баратынским[163]. Он рассчитывал, что друзья «навербуют» ему «хорошеньких пьесок», своих и чужих, и может быть даже получат страничку из «журнала» И. И. Дмитриева — его мемуаров, которые он изредка читал посетителям, но в печать не отдавал.
Дельвиг просил у Пушкина «стихи к Анне Петровне». Это был прощальный подарок Пушкина Керн — «Я помню чудное мгновенье…», вложенный в экземпляр первой главы «Онегина» в тот памятный день, когда они прощались в Михайловском июльским утром 1825 года[164]. Анна Петровна уже переехала в Петербург и жила вместе с отцом и сестрой; она постоянно бывала у Пушкиных, познакомилась с Дельвигом, и дружеская их приязнь крепла день ото дня. Она не удержалась, чтобы не показать Дельвигу стихи, и он теперь писал о них Пушкину.
Пушкин соглашается — а тем временем думает о «своем» журнале. Послание к Керн не годилось в журнал, — во всяком случае, в первый номер. Место ему было в дружеском приюте дельвиговского альманаха.
На зубок новорожденному «Московскому вестнику» Пушкин даст то, чего не будет ни у кого другого: отрывок из ожидаемого всеми «Бориса Годунова».
Юноши-«любомудры» слушают его в оцепенении, со слезами на глазах и блуждающей улыбкой. Им, и только им, расскажет он об утраченной сцене с Мариной Мнишек, прочтет песни о Стеньке Разине и неизвестное еще никому новое предисловие к «Руслану и Людмиле»: «У лукоморья дуб зеленый…»[165].
Дельвигу же он отдает вещь старую, хотя и первоклассную: ту самую сцену из «Онегина» — разговор с няней, — которую он когда-то через Льва продал Бестужеву по пять рублей за строку. Издатели «Полярной звезды» успели набрать ее для «Звездочки», теперь лежавшей как ненужный хлам в кладовой Генерального штаба. К этой сцене он присоединяет письмо Татьяны, которое тогда не отдал Бестужеву. Дельвиг не будет обижен.
Но Пушкин не забудет и о том, что он получил «золото за золотые стихи» и, стало быть, обязан его вернуть. Он поручит Плетневу отыскать вдову Рылеева — Наталью Михайловну — и возвратить ей долг: пять рублей за строку, шестьсот рублей[166].
И еще третье стихотворение он подарит Дельвигу — «Роняет лес багряный свой убор», «19 октября», свой шедевр, написанный к лицейской годовщине 1825 года.
Воспоминания о Лицее должны принадлежать лицейским.
Когда писались эти стихи, он был в заточении, и лицейская дружба поддерживала его.
Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный…
Теперь все изменилось: Пущин, Кюхельбекер в узах, он на свободе. Он оказался пророком — но не до конца. «Промчится год — и с вами снова я». В октябре двадцать шестого года он мог бы быть с Дельвигом, но двоих, воспетых им, не было на лицейском пиру. О них писал Дельвиг в своей «годовщине»: «за далеких, за родных…»
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет…
Стихи наполнялись новым смыслом. Они читались иначе, чем годом ранее. Отдавая их Дельвигу для печати, Пушкин не мог этого не знать.
И сам Дельвиг это знал как никто другой. Ведь он тоже поместил в альманахе старые стихи — «на приезд трех друзей», стихи о Кюхельбекере, о горькой разлуке и радости встречи.
Верьте: внятен им наш глас,
Он проникнет твердый камень.
Строчки из ненапечатанных дельвиговских стихов к 19 октября 1826 года становились девизом, лейтмотивом, паролем «союза поэтов» в глухие и темные времена. Буквально то же самое скажет Пушкин в послании в Сибирь, а пока напечатает у Дельвига апофеоз дружбы, услаждающей изгнание. И Кюхельбекер, и Пущин прочтут его.
Здесь не нужно ни объяснений, ни уговоров: все ясно без слов.
«За 19-е октября благодарю тебя с лицейскими скотами братцами вместе», — писал ему Дельвиг в январе 1827 года[167].
В «Северных цветах» зарождалась поэтическая тема, которая в ближайшие годы выльется в цикл «декабристских» стихов Пушкина.
Дельвиг просил Пушкина напомнить о «Северных цветах» Вяземскому и Баратынскому.
Он почти потерял с ними связь. Баратынский не писал ему со времени своей женитьбы. Он нашел, казалось, приют в мирном и спокойном семейном убежище, и друзья не в шутку опасались, что сонная Москва уже засасывает его.
Первое время по приезде Пушкина они виделись часто, и взаимное тяготение их вспыхнуло с новой силой. Они появлялись вместе, и восхищенные москвичи уступали им дорогу, поясняя шепотом, что высокий блондин — Баратынский, а курчавый брюнет — Пушкин. Их видели в салоне Зинаиды Волконской, в Благородном собрании; в доме Баратынского Пушкин читал «Бориса Годунова». Но тесная связь продержалась недолго: новый пушкинский круг был Баратынскому чужд, и взаимная холодность все более давала себя знать. «Любомудры» не любили его поэзии и встречали его самого с принужденной церемонностью. Он лучше чувствовал себя в доме Николая Полевого, у которого, случалось, проводил целые дни[168].
Зато с Вяземским Баратынский сближался все больше и больше. Еще в мае Вяземский писал Пушкину с одушевлением, что в новом знакомце его «основа плотная и прекрасная» и что «чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет»[169]. Этот энтузиазм не прошел у Вяземского и несколько месяцев спустя, когда Баратынский стал бывать у него запросто и вошел как свой человек в дружеский круг Вяземского: в дом Дениса Давыдова, еще прежде ему знакомого, к Ивану Ивановичу Дмитриеву, к которому, впрочем, относился с легкой, снисходительной иронией. Вяземский, конечно, привлекал его и в «Телеграф» — но постоянным сотрудником журнала Баратынский не сделался. Впрочем, он напечатал здесь несколько стихотворений, и в том числе две эпиграммы на Булгарина, своего давнего неприятеля, общего с Вяземским.