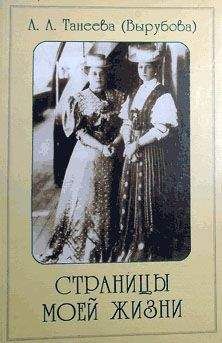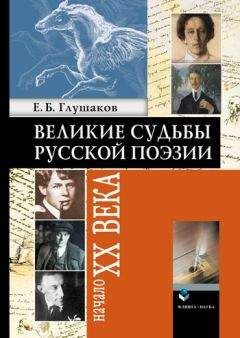Сати Спивакова - Не всё
— Иегуди, ты волновался когда-нибудь, только правда?
— Ни-ког-да, — отвечает мне Менухин. — Я жил нетерпением наконец выйти на сцену, вынести скрипку, начать играть и чувствовать это единение с музыкой и публикой. Я никогда не волновался, у меня всегда было ощущение счастья, что я доживу до той секунды, когда смогу выйти и начать играть.
Его тонкий резной профиль словно светился на фоне темной плещущейся воды. Таким я и храню его в памяти. И очень по нему скучаю.
«ПОТОМУ ЧТО Я — БЕРНСТАЙН!»
Впервые Володя играл с Бернстайном в начале восьмидесятых годов в Зальцбурге. В день рождения Моцарта они играли его концерт. Сначала Спивакова долго не выпускали на фестиваль, не давали визу. Помню, он просидел в министерстве культуры до часа ночи в ожидании паспорта. Пил чай то с вахтером, то со сторожем. Паспорт привезли только ночью после звонка от Бернстайна. В конце концов Володя все же уехал.
Вернулся он безумно воодушевленный, привез аудиокассету с записью и рассказывал, что его потрясло, как репетировал Бернстайн. Сначала пришел послушать Володину репетицию с пианистом. Старого концертмейстера Бернстайн останавливал во вступлении несколько раз. Пианист робко заметил, что он же не оркестр и не ему играть на концерте. Но Бернстайн заявил, что он не может слышать такого вступления, поскольку это его раздражает. Володя жутко перенервничал, ожидая, что же будет, когда начнет играть он сам. Но Бернстайн слушал его внимательно, закрыв глаза, практически не останавливая. Волнение отступило, потому что он почувствовал: Бернстайну понравилось.
Они стали разбирать темпы, началась первая репетиция с оркестром. В одном месте Бернстайн спросил, почему Володя так тихо играет тему. Володя ответил, что хотел бы слышать гобои. «Интересная мысль, надо записать (а при нем всегда сидела куча ассистентов, один с полотенцем, другой с партитурой, третий с карандашом), выделите, пожалуйста, пианиссимо».
Потом в финале Бернстайн попросил солиста сыграть какие-то безумные штрихи — всё наоборот. В перерыве Володя спросил маэстро, почему. Тот ответил: «Because I am old and my name is Leonard Bernstein». Володя знал, что он-то сыграет, но что оркестр может не потянуть. И действительно, когда дело дошло до финала, в оркестре началась полная неразбериха. Бернстайн заявил:
— У меня все получается, у солиста — тоже, значит, у вас тоже должно было получиться, господа.
Возражений никаких не возникло.
Концерт, видимо, был редкий и незабываемый. Когда я дала послушать запись своему папе, он, слушая, плакал и сказал:
— У тебя гениальный муж, я только боюсь, что он все разменивает себя.
Мой отец считал, что Володе нужно больше выступать соло, нежели придумывать всякие смешные штучки с «Виртуозами Москвы». Он, конечно, был прав.
Володя с Бернстайном очень подружились, никогда в жизни он не чувствовал себя на сцене с дирижером так комфортно. «У меня было ощущение, что расправились крылья и я парю, как птица. То есть я набрал высоту и просто лечу. Так звучал оркестр, такие были аккомпанемент, атмосфера и настроение, что я не играл, а парил. Меня посетило такое ощущение счастья и одновременно отчаяния, что я прибежал в артистическую, заперся и плакал. Когда я немножко успокоился и закончилось второе отделение, пришел Бернстайн. Он сказал мне слова, которые я даже сам себе не могу повторить — мне неловко повторять то, как он охарактеризовал мою игру».
Володя попросил Бернстайна подарить ему что-нибудь на память. Маэстро стоял с дирижерской палочкой. И он отдал ее Володе:
— Может быть, пригодится.
Это обыкновенная палочка, с нее облезает белый лак, пробковую ручку Володя, вовсе не мастеровитый человек, много раз подклеивал. Ей уже 17 лет. И Володя с тех пор всегда дирижирует палочкой Бернстайна.
Потом они встречались неоднократно, музицировали. Когда «Виртуозы Москвы» в конце восьмидесятых гастролировали в Израиле, Бернстайн, бывший там же, пришел на репетицию и обещал, что они обязательно сделают что-нибудь вместе с Володиным оркестром.
Я же познакомилась с Бернстайном совсем незадолго до его смерти в 1989 году. Мы были в Нью-Йорке с маленькой Катей, которая, как водится, заболела. У нее поднялась высоченная температура. Вечером Бернстайн дирижировал в Линкольн-центре оркестром Нью-Йоркской филармонии, и нам оставили билеты. Мы в последние минуты бежали под дождем на концерт, благо было недалеко.
Не могу забыть того ощущения электричества, которое исходило от Бернстайна-дирижера — какое-то свечение, электрический ток от кончика палочки, от спины, от жеста. Я такого никогда не встречала, мне даже казалось, это плод моей фантазии. Мне доводилось видеть многих мастеров, каждый из которых был по-своему уникален: Лорин Маазель, Клаудио Аббадо, Евгений Светланов, Юрий Темирканов. Но в Бернстайне было что-то магическое. Казалось, что спина гуттаперчевая, без позвонков. Любой жест был самой музыкой, которая исходила из кончиков пальцев, палочки, спины. В программе были «Ромео и Джульетта» Прокофьева и Чайковского, «Франческа да Римини» Чайковского.
Мы пошли за кулисы. К Бернстайну стояла длинная-длинная очередь. Я выглянула из-за чужих спин и увидела человека в майке, с полотенцем на шее, в ковбойских сапогах, с бокалом виски. С каждым он обстоятельно разговаривал. Сразу пахнуло родным Большим залом Консерватории. Он — из тех артистов, которому приятно общение после концерта. Видно было, что не все визитеры знакомые. На Западе такое нечасто встретишь, даже считается неприличным. Максимум — придет парочка своих людей. Когда наши иностранные знакомые стесняются зайти к Володе после концерта, я порой даже настаиваю: если к артисту после концерта никто не зашел, это очень тяжело пережить.
Подошла наша очередь. Бернстайн не знал, что Володя женат. Поэтому на меня даже не взглянул поначалу. Притянул к себе Вову, стал его обнимать, потом схватил за руку, целуя тыльную сторону ладони, приговаривал: «Gold hands». Я стояла и думала, как жаль, что нет фотоаппарата. Тут Володя представил меня:
— Ленни, познакомься, это моя жена.
Бернстайн скривил мину, посмотрел оценивающе, разочарованно спросил:
— Ты разве женат?
Володя предложил ему сыграть большой концерт. Тот отказался:
— Видишь, какая у меня подагра на руках?
Действительно, суставы были изуродованы болезнью. Он стал покусывать эти шишки, приговаривая:
— Видишь, какая гадость? Давай так: в первом отделении я дирижирую — ты играешь Моцарта, во втором — наоборот. И еще что-нибудь придумаем.
Хотели сделать это в Вене, в Зальцбурге. Но вскоре Бернстайн умер.