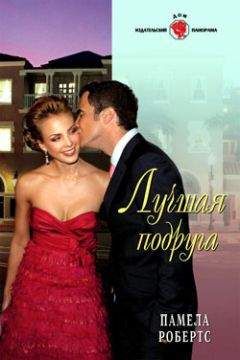Леонид Гроссман - Пушкин
Пушкин со всей решительностью отверг родительскую опеку над собой нового руководителя лицея. На старшем курсе завязалась необычная борьба директора со школьником. Победил в ней Пушкин. С кем же ему пришлось вести этот неравный бой?
Действительный статский советник Георг фон-Энгельгардт (именовавшийся в русском обществе Егором Антоновичем) происходил из германского рода, восходившего к рыцарям Тевтонского ордена, которые были разбиты в битве при Грюнвальде в 1410 году.
Воспитанный в благочестивом немецком пансионе, юный Георг начал свою карьеру еще при последних фаворитах Екатерины. Вскоре он стал любимцем самого Павла I, а затем и Александра, пока, наконец, при содействии всесильного Аракчеева не устроился на посту директора Царскосельского лицея. Секретарь Мальтийского ордена, учрежденного в 1798 году для борьбы с революцией, Энгельгардт и в лицее проводил программу церковно-государственного воспитания.
Иезуитские принципы Жозефа де Местра, столь заметно окрасившие образовательную систему и школьный быт лицея при Малиновском, уступили теперь место особой сентиментальной педагогике старонемецкого типа, которую насаждал здесь Энгельгардт. Сторонник германской «филантропической школы воспитания», он придерживался ее слащавой идилличности в личных отношениях с воспитанниками и глубочайшего благоговения перед «священными» авторитетами в своей идейной программе. Воспитание таких свойств характера, как аккуратность, умеренность, светская благовоспитанность, с целью выработки полезных государственных чиновников были приняты Энгельгардтом в качестве идеалов его педагогики. Из неудавшегося коллегиума иезуитов, о котором мечтал в свое время Разумовский, лицей стал перестраиваться при Энгельгардте в так называемый «Филантропинум» в духе немецкой школы набожности и благонравия.
Обе системы одинаково отталкивали выученика вольнодумцев — Пушкина. Лютеранская добропорядочность Энгельгардта так же претила его мятежному духу, как и воинствующий католицизм Местра. Он решительно уклонился от раскрытия новому директору своего внутреннего мира и отказался поддаться его верноподданной и смиренной морали.
Неспособный разобраться в сложной личности гениального подростка, Энгельгардт проставил самые дурные моральные баллы Пушкину. В своих заметках о воспитанниках лицея он решительно осудил Пушкина за «пустое и холодное сердце», оскверненное эротическими произведениями, а главное — за отсутствие религии. Неудержимое стремление молодого ума освободиться от незыблемых авторитетов прошлого, укрепление которых являлось главной задачей директора императорской школы, видимо, вызвало этот разрыв.
По свидетельству В. П. Гаевского, собиравшего сведения о лицее по свежим следам, распре поэта с Энгельгардтом способствовало и увлечение юноши молодой француженкой Марией Смит, жившей в семье директора. Ей посвящена одна из лучших любовных элегий Пушкина-лицеиста — «К молодой вдове». Это стихотворение, охваченное горячим и смелым чувством, как бы свидетельствует о счастливой победе, вероятно воображаемой: молодая женщина недавно лишь овдовела, готовилась стать матерью, принадлежала к пуританскому семейству директора лицея. По-видимому, строки Пушкина о пережитой любви вызваны законами построения такого стихотворного укора молодой вдове, не забывающей и в новой страсти умершего супруга. Пушкин мог слышать в царскосельском театре «Дон-Жуана» Моцарта, написанного как раз на эту тему. В стихотворении встречаются метафоры и уподобления исключительной выразительности, вроде «быстрый обморок любви», и замечательные звуковые ходы, основанные на повторении слов и характерных согласных. По сравнению с элегическими жалобами «бакунинского цикла» оно отличается мужественностью тона и драматической силой: впервые в лирике Пушкина ставится и разрешается трагическая проблема любви и смерти и притом не в смиренном духе традиционных вероучений, а в радостном и безусловном провозглашении прав жизни и страсти.
Мария Смит сначала пожаловалась Энгельгардту на автора столь компрометирующего ее послания, а затем нашла более остроумный выход: недурно владея пером, она вступила в стихотворное состязание с юношей и ответила стихами на французские куплеты Пушкина («Когда поэт в своем экстазе»). В нескромном поклоннике она оценила даровитого автора, но только для того, чтобы лестным обращением прикрыть непреклонность своего решения. Ей нельзя отказать в остроумии и весьма тонкой иронии.
Но директор лицея, несомненно, усмотрел в посвящении молодой вдове подтверждение своих наблюдений над пристрастием Пушкина к чувственной поэзии и особенно над его атеизмом. Ни малейшей веры в загробный мир, в бессмертие души! Неотразимо смелыми стихами, поражающими силой образов и стремительностью ритмов, говорил лицейский поэт о безвозвратном исчезновении умерших:
Не для них — весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов….
…Нет, разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы…
Грозных шагов командора не услышат счастливые любовники!
Возмущенный безверием Пушкина, Энгельгардт не оценил ни его поэтического дарования, ни его душевных качеств: «…его высшая и конечная цель блестеть и именно поэзиею, — заключал новый директор лицея, — но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения».
Это единственный из всех современников Пушкина, усомнившийся в его творческом призвании.
2
Совершенно по-иному расценивали в то время шестнадцатилетнего поэта крупнейшие русские писатели. В конце марта молодого автора навестили в лицее по пути из Петербурга в Москву Карамзин, Жуковский, Александр Тургенев, Вяземский и дядя Василий Львович. Все они стали теперь виднейшими деятелями литературного общества «Арзамас», основанного для обстрела оплотов литературной реакции — «Беседы» и Российской академии.
Борьба за старый и новый слог уже вышла далеко за границы филологических прений. Соображения правильного словообразования стали поглощаться политическими тревогами. Воинствующий Шишков, усматривавший всюду «следы языка и духа чудовищной французской революции», нападал на карамзинские галлицизмы и требовал обогащения языка церковнославянскими книгами.
Новые опыты Карамзина и Жуковского подвергались яростным нападкам и в театральных памфлетах Шаховского. После постановки осенью 1815 года «Липецких вод», с карикатурой на Жуковского, сторонники Карамзина объединяются для общей борьбы. Возникает «Арзамас». Порядок заседаний нового содружества представлял живую пародию на собрания академий, масонских лож, литературных обществ типа «Беседы». Потешные и даже озорные приемы арзамасской процедуры вызывали немало нареканий, которые весьма убедительно отвел Вяземский: «В старой Италии было множество подобных академий, шуточных по названию и некоторым обрядам своим, но не менее того обратившихся на пользу языка и литературы».