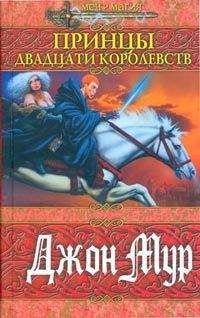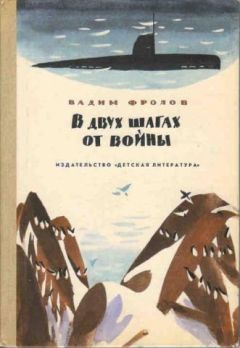Ходасевич Фелицианович - Белый коридор. Воспоминания.
— Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду и тебя задушу…
Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так, из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто в роде маленькой гимнастическом залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила бар. В. И. Икскуль, к которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой — по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хоть отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником; при помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая, холодная комната Мариэтты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый, седобородый марксист Лев Дейч. Мариэтта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня — марксизму», — говорила Мариэтта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны.
Так жил «Дом искусств». Разумеется, как всякое «общежитие», не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренне благородная, главное же — как я уже говорил — проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга — подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах — некоторые видны были с самой Фонтанки — и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье.
За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
1939 г.
Во Пскове
Сократив пассажирское движение на советских железных дорогах, в СССР отчасти воскресили стиль эпохи военного коммунизма и начала нэпа. Железнодорожный билет стал вновь драгоценной редкостью, а в вагонах опять создалась та самая обстановка, которую покойный поэт Константин Ватинов запечатлел в стихотворении, начинавшемся со стиха:
У каждого во рту нога соседа.
Во время военного коммунизма население было прикреплено к земле. В каждом отдельном случае поездка по железной дороге должна была быть обоснована действительной надобностью. Легальных надобностей у советского гражданина было не много: торговля была запрещена, семейные отношения упразднены. Другими словами, ездить разрешалось только по казенным делам, то есть по командировкам. Чтобы получить билет, требовалось добыть командировку. Командировки и добывались — по протекции либо за деньги. Кто не добыл командировки, должен был ехать зайцем — под скамейкой, на крыше, на буффере, а то так и на осях под вагоном.
Кроме простых командировок, обрекавших человека на езду в «бесклассовом», то есть загаженном, вшивом и переполненном вагоне, существовали командировки привилегированные: в вагоне международного общества. В 1919–1920 г. заведовал я московским отделом издательства «Всемирная Литература», которого центр находился в Петербурге. Поэтому я обладал правом выдавать командировки сотрудникам. Виза, поставленная Енукидзе, превращала мою командировку в привилегированную. Немалое количество литераторов и профессоров проехало по ним не только в Петербург, но и в другие города. Переводчиков Кальдерона и Ламартина отправлял я в Орел или Харьков «по делам службы». В международном вагоне ехал я и сам в Петербург, причем имел немало случаев наблюдать высокопоставленных спутников. Никогда не забуду одного круглолицего, румяного парня, лет семнадцати. До революции он подавал чай и носил бумаги из этажа в этаж в частном банке. После революции занял «пост» в наркомфине. На нём была умопомрачительная шуба на ильковом меху с бобровым воротником, новый костюм, от которого рябило в глазах, лаково-прюнелевые штиблеты, шелковые носки. Из новенького кожаного чемодана вынул он пунцовое атласное одеяло, стёганое, с пододеяльником, обшитым широкими кружевами, которые так и пенились. По углам были огромные банты из красных лент. Ложась спать, обрызгался он духами и благоухал, и храпел, и его румяная морда презабавно выглядывала из кружев.
Переселившись в Петербург, я лишился власти и сделался простым смертным. Поэтому, когда летом 1921 года вздумал я поехать на отдых в деревню, расположенную возле города Порхова, то пришлось мне раздобывать командировку для себя, для жены и для тринадцатилетнего моего пасынка. После двухнедельных мытарств я получил командировку и билеты, но о международном вагоне и о плацкарте мечтать уже, разумеется, не приходилось. Как бы то ни было, в жаркий августовский день явились мы на Варшавский вокзал. Ехать надо было до Пскова, а там пересесть на Порхов. Багаж у нас был громоздкий: одежда, постельное бельё, подушки, одеяла, книги, а главное — груда товаров для меновой торговли с туземцами, ибо деньги не стоили ничего. На вокзал мы прибыли часа за два до поезда — неизвестно, как и когда будут сажать в вагоны. Сидели на вещах в зале третьего класса. Потом началась посадка — буря и натиск, вой, улюлюканье, поднятые кулаки, сундуки в воздухе, звон разбиваемых стёкол. Потом все-таки очутились в вагоне — человек по шести на короткой скамье. Потом поезд тронулся — нельзя сказать, чтобы «замелькали станции»: мы тащились медленно, в одуряющей жаре, в жажде, в зловонии, полагаясь на Провидение и на шарики из нафталина и камфары, рассованные по всем карманам, зашитые в ладанки на груди — в защиту от вшей (впоследствии я узнал, что вши очень любят садиться на эти шарики).
В вагон мы попали, конечно, не первыми. Верхние места были уже заняты. Чьи-то ноги порой свешивались к носам нашим. Против нас на верхней скамье расположилась бойкая девка, которой доставляло большое удовольствие обнаруживать полное отсутствие исподней одежды. Пока не стемнело, я старался обращать внимание пасынка на иные картины природы, — на те, что нам медленно развертывались за окном. Потом нас укачало, и началась сонная одурь, онемение рук и ног. Потом рассвело, и мы стали подъезжать ко Пскову.
Поезд наш опоздал на час. «Согласованный» с нами поезд на Порхов ушел за десять минут до нашего прибытия. Спрашиваем, когда идет следующий, и получаем ответ: послезавтра в это же время. Известие ошеломляющее — нам предстоит прожить двое суток во Пскове. Сдаем вещи на хранение и тут же узнаем, что наши билеты надо «прокомпостировать», т. е. сделать на них отметку об остановке. Перед кассою очередь. Добравшись до окошечка, узнаю новость совсем уже потрясающую: билеты наши вообще на послезавтра недействительны, и надо брать новые, которые по командировке петербургской не могут быть выданы, — нужна командировка от псковского совдепа. Отправляюсь в совдеп, но железнодорожный отдел, оказывается, сегодня не работает: приходите завтра.