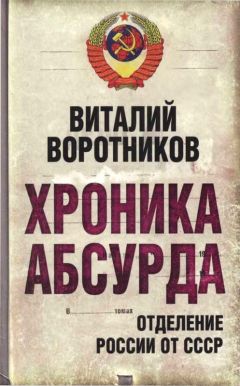Иван Лаптев - Власть без славы
Мы с Е. М. Примаковым сидели в средних рядах зала, рядом был генерал армии А. Д. Лизичев — начальник Главного политического управления Советской Армии. Мы с Евгением Максимовичем условились не снимать свои фамилии из списка, хотя работы у нас обоих были просто замечательные. Лизичев, которого мы стали агитировать сделать так же, сослался на необходимость доложиться министру. В итоге московский список по Совету Союза составил 55 фамилий на 27 мест. Как уже отмечалось выше, такой подход привел к тому, что все заметные, яркие фигуры — Г. Х. Попов, Ю. Н. Афанасьев, С. Б. Станкевич и другие — были забаллотированы.
Но все-таки такие встречи и жаркие споры на них были лишь подготовительным этапом к тем демократическим ристалищам, на которых все объявляли себя защитниками одной королевы — демократии, как в 1917 году каждая политическая сила провозглашала себя единственной выразительницей интересов трудового народа. Все бы хорошо, но ведь каждый «защитник демократии» по какой-то странной логике объявлял всех других ее врагами.
К сожалению, по этому же пути пошла и межрегиональная депутатская группа. И немало преуспела в обострении противоречий между складывающимися новыми политическими силами, так как объединяла людей, безусловно, талантливых, образованных, честолюбивых, да еще имела в своем составе такой великий центр притяжения народных взоров, как Андрей Дмитриевич Сахаров. Она выработала целую методологию сокрушительной критики существующего режима и строя, придала этой критике последовательность, решилась выйти с ней на прямые контакты с населением через многотысячные митинги. Отзвуки этих митингов, разговоры о них, легенды волна за волной шли и шли по Москве, а затем и по всей стране, которая именно таким путем узнавала своих новых героев, влюблялась в них, не желая замечать никаких недостатков, самым главным из которых было отсутствие позитивных программ. Разрушительная политика Ельцина есть в конечном счете производное от исповедовавшейся МДГ идеологии отрицания существующего порядка жизни, помноженное на его собственный характер. То есть, опять же: говорим, соглашаемся, что так жить нельзя, но не можем сказать, а как устроить жизнь по-другому.
Ну а что же те, кто был в это время «у руля»? Что же КПСС, постоянно разъяснявшая населению куда как менее важные ситуации? Там царили либо растерянность, либо… злорадство: а-а, вот чего вы добились, вот как выглядит ваша демократия! Но, думаю, там было и совершенно новое для партии чувство бессилия. Привычных команд: хватать, тащить, не пущать сверху не поступало. А ничего другого в идеологической сфере парткомы делать не умели, их организаторский опыт был всецело опытом исполнения директив и указаний, общение с массами давно уже исчерпывалось общением через столы президиумов и досье КГБ. Опыта открытой политической борьбы вся партия просто не имела, давно и прочно забыв митинговую деятельность отцов-основателей, ибо уже с момента окончания гражданской войны «товарищ маузер» надежно заменил все политические дискуссии. Нельзя же считать таковыми единодушные осуждения «врагов народа», когда люди просто не знали, кому и за что они требуют высшей меры. В результате КПСС, весь ее колоссальный идеологический аппарат оказались совершенно не готовыми к прямым дебатам с кучкой инакомыслящих интеллигентов. Что же касается руководства, то оно, по-моему, и мысли не допускало, что может утратить контроль над ситуацией, что «какие-то там Поповы» расшибут эту железобетонную систему вдребезги.
Между тем эта, казалось бы, нерушимая система уже прогибалась. Вал демократических настроений, ожиданий, надежд поднимался все выше, был уже оседлан лихими наездниками и накатывался на общество, подобно русскому бунту. Веками дремавшие гены разбойничьих племен просыпались в нашей крови, и вопль «сарынь, на кичку!» уже у многих просился на язык. Мы играли с огнем, желая, как всегда, получить все и сразу, а лучше — еще вчера. Поэтому 1988–1990 годы и стали временем чреватого немыслимыми бедами противостояния не кого-то с кем-то, а всех нас — с нами. Мы снова, как 80 лет назад, поверили, что если царя заменит Ленин или Ленина — царь, то жизнь пойдет иначе, лучше, проще. И кинулись в новую революцию вместо скучной, нудной, неинтересной, но необходимой работы, которую все равно кто-то будет обязан выполнять — не дети наши, так внуки или правнуки. Для этой работы, которую можно назвать настоящей перестройкой системы, строя, режима, открывались реальные эволюционные возможности, но в угаре политической борьбы, оглушенные собственными лозунгами о демократизации, мы эти возможности упустили. В результате получили ту демократизацию, которую имеем и которая имеет нас.
Говорят, что революция пожирает своих детей. Нашей революции ее дети — только на десерт. Обедает она своими родителями, своими создателями. В 1991 году наступила их политическая кончина, в 1993 году та же участь постигла их внуков. А сама революция, так и не прозрев, приобрела нетерпимо-сварливый характер и оказалась на положении дальней родственницы-приживалки, которую хозяева дома поместили в темный чулан и извлекают оттуда только по великим праздникам, когда еще раз надо сказать доверчивому российскому люду, что он пострадал не зря.
Но вернемся назад, к тому времени, когда приближался «нарисованный» XIX партконференцией 1-й Съезд народных депутатов СССР и еще единый советский народ, утрачивая всякие ориентиры, но исповедуя привычные патерналистские надежды, уверовал в благодетельные грядущие перемены, хотя и не представлял их облика и сути, считая, что хуже, чем есть, быть не может. Глубина паралича власти в те дни просто поражает. Власть как бы ушла в некое другое измерение, где решила переждать, пока стихнет брожение ее собственного мира. Почему? Можно предположить, что информация о критическом давлении в народном котле не подавалась «наверх», таких случаев в отечественной истории немало. Либо подавалась, но не воспринималась там, не оценивалась как весьма серьезная и тревожная. Правда, за этим тянется следующий вопрос: а могли ли там ее адекватно осмыслить и оценить? Этот вопрос только на первый взгляд кажется риторическим. Ибо он касается самой сердцевины тогдашней политической системы советского общества, а именно — дееспособности и интеллектуального состояния КПСС. Зная это состояние, я отвечаю на поставленный выше вопрос отрицательно: не могли!
Получается, что, худо-бедно наметив путь демократических преобразований, советский истеблишмент сам скатился к кавалерийскому лозунгу «Даешь демократию!» и в процессе атаки утратил направление движения. Написаны уже сотни книг, разъясняющих, что это произошло по вине демократов, объединяемых межрегиональной депутатской группой. Но разве тогда они стояли у власти? Разве они определяли и осуществляли политику? Разве они отвечали за страну?