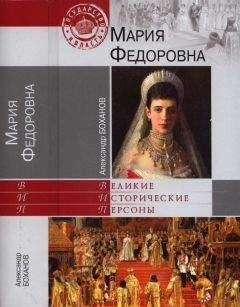Елена Первушина - Быть принцессой. Повседневная жизнь при русском дворе
От императрицы, которая ненавидела Голштинию и все то, что оттуда исходило, и видела, как подобные военные погремушки погубили отца великого князя, герцога Карла-Фридриха, во мнении Петра I и всего русского общества, сначала, кажется, это скрыли или сказали ей, что это такой пустяк, что не стоило об этом и говорить, и что притом одно присутствие графа Александра Шувалова является уже достаточной уздой для того, чтобы это дело не имело никаких последствий. Сев на суда в Киле, этот отряд прибыл в Кронштадт, а оттуда перебрался в Ораниенбаум. Великий князь, который при Чоглокове надевал голштинский мундир только в своей комнате и как бы украдкой, теперь уже не стал носить другого, кроме как на куртагах, хотя он был подполковником Преображенского полка и, кроме того, был в России шефом Кирасирского полка. По совету Брокдорфа великий князь держал в большом секрете от меня эту перевозку войск. Признаюсь, когда я это узнала, я ужаснулась тому отвратительному впечатлению, которое этот поступок великого князя должен был произвести на русское общество и даже на ум императрицы, взгляды которой мне были прекрасно известны. Александр Шувалов с обычным подергиванием глаза смотрел, как этот отряд проходил мимо балкона в Ораниенбауме. Я была рядом с ним; в глубине души он не одобрял того, что он и его родня условились терпеть. При Ораниенбаумском дворце стоял караул из Ингерманландского полка, который чередовался с Астраханским. Я узнала, что, видя, как проходят голштинские войска, солдаты сказали: «Эти проклятые немцы все проданы прусскому королю; это все предателей приводят в Россию». Вообще, общество было возмущено этим появлением; самые преданные пожимали плечами, самые умеренные находили это смешным и странным; в сущности, это было очень неосторожное ребячество.
Что меня касается, то я молчала, а когда мне об этом говорили, я высказывала свое мнение таким образом, чтобы увидели, что я этого ничуть не одобряю; я действительно смотрела на это дело, с какой стороны его ни поверни, как на в высшей степени вредное для блага великого князя, ибо при ближайшем рассмотрении какое же другое мнение можно было по этому поводу иметь? Одно его удовольствие не могло никогда вознаградить за тот вред, который эта затея должна была сделать ему в общественном мнении. Его Императорское Высочество, в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями. Надо было их кормить, но об этом совсем не подумали; между тем дело было неотложное, и произошло несколько столкновений с гофмаршалом, который не был готов к такому требованию; наконец, он на это согласился, и камер-лакеи вместе с солдатами Ингерманландского полка, имевшими караул при дворце, были употреблены на то, чтобы носить из дворцовой кухни в лагерь пищу для вновь прибывших. Этот лагерь был не особенно близко от дворца; ни тем, ни другим ничего не дали за их труд; можно себе представить, какое прекрасное впечатление должно было произвести столь мудрое и разумное распоряжение.
Солдаты Ингерманландского полка говорили: «Вот мы стали лакеями этих проклятых немцев». Дворцовые лакеи говорили: «Нас заставляют служить этому мужичью». Когда я увидела и узнала, что происходит, я твердо решила держаться как можно дальше от этой опасной ребяческой игры. Камергеры нашего двора, которые были женаты, имели при себе своих жен; это составляло довольно многочисленную компанию, кавалерам нечего было делать в голштинском лагере, из которого Его Императорское Высочество не выходил. Таким образом, среди этой компании придворных и с нею я уходила гулять как можно чаще, но всегда в сторону, противоположную от лагеря, к которому мы не подходили ни издали, ни близко. Мне вздумалось тогда развести себе сад в Ораниенбауме, и так как я знала, что великий князь не даст мне для этого ни клочка земли, то я попросила князей Голицыных продать или уступить мне пространство во сто саженей невозделанной и давно брошенной земли, которая находилась у них совсем рядом с Ораниенбаумом; так как этот кусок земли принадлежал восьми или десяти членам их семьи, то они охотно мне его уступили, не получая от нее, впрочем, никакого дохода. Я начала делать планы, как строить и сажать, и так как это была моя первая затея в смысле посадок и построек, то она приняла довольно обширные размеры. У меня был старый хирург, француз по имени Гюйон, который, видя это, говорил мне: «К чему это? Помяните мое слово: я вам предсказываю, что в один прекрасный день вы все это бросите». Его предсказание сбылось, но мне нужно было какое-либо развлечение, а это и было развлечением, которое могло развивать воображение.
Для посадки моего сада я сначала пользовалась услугами ораниенбаумского садовника Ламберти; он находился на службе императрицы, когда она была еще цесаревной, в ее царскосельском имении, откуда она перевела его в Ораниенбаум. Он занимался предсказаниями, и, между прочим, предсказание, сделанное им императрице, сбылось. Он ей предрек, что она взойдет на престол. Этот же человек сказал мне и повторял это столько раз, сколько мне было угодно его слушать, что я стану Российской самодержавной императрицей, что я увижу детей, внуков и правнуков и умру в глубокой старости, с лишком 80 лет от роду. Он сделал более того: он определил год моего восшествия на престол за шесть лет до того, как оно действительно произошло. Это был очень странный человек, говоривший с такою уверенностью, с которой невозможно было его сбить. Он уверял, что императрица относится к нему с недоброжелательством за то, что он предсказал ей, что с ней случилось, и что она выслала его из Царского Села в Ораниенбаум, потому что боялась его, так как он не мог больше обещать ей трона. Кажется, в Троицын день нас вытащили из Ораниенбаума и заставили приехать в город. Приблизительно около этого времени прибыл в Россию английский посланник кавалер Уильямс; в его свите находился граф Понятовский, поляк, сын того, который примкнул к партии Карла XII, короля шведского.
После краткого пребывания в городе мы вернулись в Ораниенбаум, где императрица приказала праздновать Петров день. Она не приехала туда сама, потому что не хотела праздновать первые именины моего сына Павла, приходившиеся в тот же день. Она осталась в Петергофе; там она села у окна, где, по-видимому, оставалась весь день, потому что все приехавшие в Ораниенбаум говорили, что видели ее у этого окна.
В Ораниенбаум наехало множество народа; танцевали в зале, который находится при входе в мой сад, потом там же ужинали; иностранные послы и посланники также приехали; помню, что английский посланник, кавалер Генбюри Уильяме, был за ужином моим соседом и что у нас с ним был разговор – столь же приятный, сколь и веселый; так как он был очень умен и образован и знал всю Европу, то с ним нетрудно было разговаривать. Я узнала потом, что ему так же было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой; в этом отношении я никогда не терпела недостатка со стороны тех голов или умов, которые подходили к моему уму, и так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой: меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала.