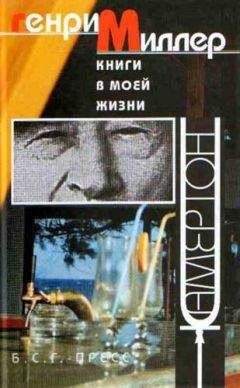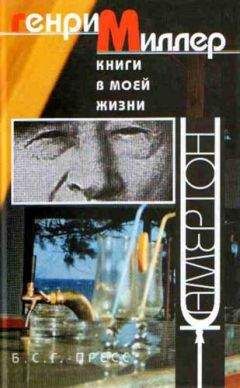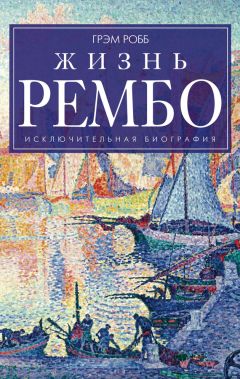Генри Миллер - Время убийц
Пытаясь совладать со своим демоном (ангелом в ином обличье), Рембо жил такой жизнью, какою лишь злейший враг покарал бы его за дезертирство. То была одновременно и тень, и реальность его воображаемого мира, возникшего в глубинах его чистой и наивной души. Эта душевная девственность и лишила его умения приспосабливаться, что, как водится, повлекло за собой новый вид безумия: жажду полного приспособления, полного подчинения. Так прежний макимализм пробился сквозь скорлупу негативизма. Раздвоение на ангельскую и демоническую ипостаси, которое он не в силах разрешить, становится постоянным. Единственный выход — раствориться во множестве: не умея быть самим собой, он может стать бесконечным множеством индивидуальностей. Задолго до него Якоб Бёме выразил ту же мысль, сказав: «Тот, кто не умирает прежде, чем умрет, обречен на погибель в смертный час». Эта участь ждет и современного человека: лишенный прочных корней, он не умирает, но распадается на части, как расколотая статуя, растворяется, уходит в небытие.
В непомерном увлечении Рембо земною жизнью есть, однако, и другая сторона. Его стремление познать истину телом и душой есть жажда того земного Рая, который Блейк называл Беула{21}, — та благодать, что испытывает человек, безоглядно принявший свой Ад и тем самым обретший и свой Рай. Это и есть Воскресение во плоти. Человек, таким образом, становится наконец ответственным за собственную судьбу. Рембо пытался заново обустроить человека на земле, и только на нашей земле. Он отказывался принять бессмертие духа, порожденного мертвыми телами. Он отказывался признать и идеальное общество, это скопище бездушных тел, которыми управляют из политических или экономических центров. Поразительная энергия, бившая из него всю жизнь, была проявлением творческого начала. Отрицая Отца и Сына, он ведь не отрицает Святого Духа. Творчество — вот чему он поклоняется, что превозносит. Из этой страсти и возникает «необходимость разрушения», которой его часто попрекают. Но Рембо призывал не к бессмысленному, мстительному разрушению, а к расчистке земли для новой поросли. Его главная цель — дать волю духу. Опять же, отказываясь назвать, определить или очертить истинного Бога, он создает своего рода вакуум, чтобы дать простор своему представлению о Боге. Рембо лишен пошлости или фамильярности священника, лично знакомого с Богом и ежедневно беседующего с Ним. Рембо знал, что существует высшее общение, общение духа. Он знал, что это общение — диалог, которого не повторишь всуе; он свершается в полном молчании, благоговении и смирении. Рембо поэтому гораздо ближе к поклонению, чем к святотатству. Он с теми, кто в спасении ищет смысла. «Рассудочная песнь ангелов» — разве не видна в этом попытка подтолкнуть к немедленному действию? Отсрочка — это песенка дьявола, под звуки которой человеку вводится дурманное снадобье, именуемое «достижимость».
«Как скучно! Что я здесь делаю?» — восклицает Рембо в одном из писем из Абиссинии. «Что я здесь делаю?» В этом крике сосредоточена вся тягость земной юдоли. Говоря о долгих годах изгнания, которые Рембо сам себе предсказал в «Сезоне», Эджелл Рикуорд{22} замечает: «По его мнению, когда выберешься из скорлупы человеческого удела, главное — найти опору, чтобы выжить в условиях абсолютной чистоты, почти божественной свободы от иллюзий». Но человеку никогда не выбраться из этой скорлупы, даже в безумии. Рембо больше походил на вулкан, который, исчерпав свой запас огня, угасает навеки. И если ему и удалось выбраться из этой скорлупы, то лишь для того, чтобы уже в юности пресечь собственную песнь. Таким он остается и поныне, вечно юным, — своего рода jeune roi soleil[82].
Это нежелание взрослеть, как мы склонны его рассматривать, обладает каким-то трогательным величием. Взрослеть ради чего? — вообразим, что он сам себя спрашивает об этом. Ради зрелости, которая несет с собою порабощение и оскопление? Он развивался необычайно бурно, однако — цвести? Цвести означало окончиться гнилью. Он решает умереть бутоном. Это высшее торжество юности. Он, скорее, даст жестоко умертвить свои грезы, но только не замарать их. Он сподобился увидеть жизнь во всем великолепии и полноте; он не предает этого образа, став одомашненным гражданином мира. «Cette âme égarée parmi nous tous»[83] — вот как он сам неоднократно называет себя.
Одинокий, лишенный друзей и близких, он сколь возможно раздвигает границы юности. Он правит этой империей, как никогда еще ею не правили, но он опустошает свои владения, — по крайней мере ту их часть, которая нам известна. Крылья, возносившие его ввысь, гниют вместе с телом в гробнице кокона, из которого он не желал выходить. Он умирает в им самим сотворенной утробе, нерушимой, однако ставшей для него преддверием Ада. Такая противоестественность составляет его особый вклад в сагу об актах отречения. Есть в этой противоестественности какой-то чудовищный привкус — непременный в тех случаях, когда «роль судьбы» самочинно захватывается духом зла. Приостановка развития собственной жизни (нарциссизм), составляющая еще одну грань общей картины, ведет к тому, что возникает новый страх, сильнее всех прежних — страх утратить свою индивидуальность. Эта угроза, вечно висевшая над ним, и обрекла его душу на то полное отчуждение от мира, которого он в свое время и не надеялся достичь. Грезы обволакивают его, запеленывают и душат: он превращается в мумию, забальзамированную собственными вымыслами.
Мне нравится видеть в нем Колумба Юности, раздвинувшего пределы этой лишь отчасти исследованной области. Говорят, юность кончается, когда начинается зрелость. Бессмысленное суждение, ибо никогда еще на протяжении истории человеку не удавалось полностью насладиться юностью или познать неограниченные возможности зрелого возраста. Как постичь великолепие и полноту юности, если все силы уходят на борьбу с ошибками и лживыми догмами родителей и длинной вереницы предков? Должна ли юность тратить себя на то, чтобы разомкнуть тиски смерти? Разве главное земное предназначение молодости — бунтовать, разрушать, убивать? Разве для того дается молодость, чтобы приносить ее в жертву? А как же юные мечты? Всегда ли их нужно считать глупыми причудами возраста? Так и будем утверждать, что их населяют одни лишь химеры? Мечты — это побеги и почки воображения; у них тоже есть право на собственную жизнь. Попробуйте задушить или исказить юношеские мечты, и вы уничтожите их творца. Там, где не было подлинной юности, невозможна и подлинная зрелость. Если общество превратилось в скопище изъянов и уродств, разве не повинны в том наши воспитатели и наставники? Сегодня, как и вчера, юноше, желающему жить своей жизнью, нет приюта, ему негде насладиться своей молодостью; остается лишь уползти в свой кокон и, закрыв все отверстия, похоронить себя заживо. Представления о нашей матери-земле как о «яйце, что содержит в себе все необходимое», претерпело глубокие изменения. Космическое яйцо содержит протухший желток. Таков современный взгляд на мать-землю. Психоаналитики установили: отрава исходит из родимой утробы; да что толку? В свете этого глубокомысленного открытия нам разрешается, как я понимаю, перейти из одного тухлого яйца в другое. Коль скоро мы в это верим, значит, так оно и есть, но независимо от того, верим мы в это или не верим, это же чистейший, абсолютный ад. О Рембо говорят, что он «презирал высшие удовольствия нашего мира». Но разве он не заслуживает именно за это нашего восхищения? К чему пополнять ряды смерти и распада? К чему взращивать новых чудовищ нигилизма и тщеты? Пусть общество само избавится от своего разложившегося трупа! Пусть у нас будет новое небо и новая земля! — в этом был смысл упорного мятежа Рембо.