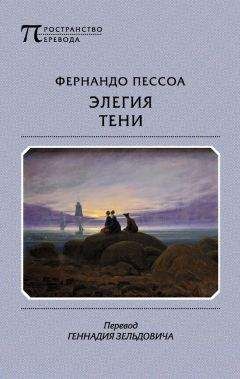Фернандо Пессоа - Книга непокоя
Когда ощущения так обострены, река Тежу – это Атлантика, бесконечность, а Касильяш – другой континент или даже другая вселенная.
(Глава о безразличии или о чем-то подобном)
Каждая душа, достойная себя самой, хочет прожить жизнь на Пределе. Довольствоваться тем, что ему дано, – это свойство раба. Просить больше – свойство детей. Захватывать больше – свойство безумцев, потому что все завоевания – это…
Вести жизнь на Пределе означает вести ее до предельных границ, но для этого есть три способа, и каждой возвышенной душе следует выбирать один из них. Можно вести жизнь на пределе, следуя путем Улисса через все возможные яркие ощущения, через все формы внешнего проявления энергии. Редки, однако, во все эпохи от сотворения мира те, кто может закрыть усталые глаза, полные суммой всех усталостей, те, кто овладел всем – всеми способами.
Редки могущие столько требовать от жизни и добиваться этого, ведь она им дает только тело и душу; умеющие не быть с нею ревнивцами, потому что могут получить всю ее любовь, полностью. Но такое желание в душе возвышенной и сильной, без сомнения, должно существовать. Когда эта душа все же понимает, что такая самореализация для нее невозможна, что у нее нет силы для завоевания всех частей Всего, перед нею открываются два других пути: один – полное отречение, формальное воздержание, совершенное пренебрежение ради сферы чувствительности тем, что не дает полного обладания в сфере активности и энергии. Лучше божественное не-делание, чем действие бесполезное, частичное, недостаточное, характерное для бесчисленного и бесполезного пустого большинства людей; и есть иной путь – путь совершенного равновесия, поиск Предела в Пропорциях Абсолюта, где жажда Предельного переходит от сферы желаний и эмоций к Разуму, направляя свои стремления не на то, чтобы жить всю свою жизнь, не на то, чтобы чувствовать всю свою жизнь, но чтобы распорядиться всей своей жизнью в соответствии с разумной Гармонией и Согласованностью.
Жажда понимать, которая для стольких благородных душ заменяет жажду действия, принадлежит к сфере чувствительности. Заменить разумом энергию, разорвать звено цепи между желанием и эмоцией, не интересуясь проявлениями материальной жизни, – вот что, будучи достигнутым, стоит более, чем жизнь, слишком сложная, чтобы ею обладать полностью, и слишком печальная, чтобы обладать частично.
Как говорили древние мореплаватели, плыть – нужно, но жить – не нужно. Мы – мореплаватели с болезненной чувствительностью, давайте же скажем, что чувствовать – нужно, но не нужно жить.
Моя жизнь в каком-то оцепенении. Это не то, что бывает обычно, когда дни проходят за днями, а мы не отвечаем на полученное срочное письмо. Это не то, чего не бывает, когда откладывается на неопределенное время что-то простое и полезное или полезное и одновременно приятное. В моем безрассудстве по отношению к себе больше утонченности. Моя душа парализована. Чувствуется во мне пауза – в желаниях, эмоциях, в мышлении, и эта пауза длится многие дни; только растительная жизнь души – слово, движение, привычка – демонстрирует мои жизненные проявления другим, а через них – мне самому.
В эти сумрачные периоды я не способен думать, чувствовать, желать. Не могу писать ничего, кроме цифр или черточек. Не чувствую: даже смерть кого-то, мною любимого, казалась бы мне, случившейся в иной реальности. Не могу: словно я сплю, и мои движения, мои слова, мои действия заключаются лишь в более прерывистом дыхании, инстинктивном изменении ритма любого организма.
И так проходят дни за днями, даже не могу сказать, сколько дней в моей жизни прошло иначе. Иногда уже в преддверии такой остановки я оказываюсь еще не так обнажен, как предполагаю, и еще есть неощутимые одежды, прикрывающие вечное отсутствие моей истинной души; случается, что мои мысли, чувства, желания бывают проявлениями застоя, перед более сокровенным мышлением, чувством более моим, перед желанием, потерянным где-то в лабиринте, каким я действительно являюсь.
Как бы там ни было, думаю, что это так. И ради бога или богов, если они есть, отказываюсь от того, кто я есть, в соответствии с тем, что приказывает судьба и диктует случай, верный забытому обязательству.
Я не возмущаюсь, потому что возмущение – для сильных; я не смиряюсь, потому что смирение – для благородных; не молчу, потому что молчание – для великих. А я не силен, не благороден, не велик. Я страдаю и мечтаю. Жалуюсь, потому что я слабый и потому что я – художник, развлекаю себя, украшая музыкально мои жалобы, и преображаю мои мечтания в соответствии с моими представлениями о красоте.
Сожалею только, что я – не ребенок, чтобы верить своим мечтам, не безумец, чтобы отстраниться душой ото всех тех, кто меня окружает […]
Принимать мечту за реальность, излишне жить мечтами – это шип придуманной розы моей жизни мечтателя: даже мечты меня не радуют, потому что я считаю их несовершенными.
Не для того, чтобы раскрасить это стекло цветастых мечтаний, я прячусь от шума чужой жизни, созерцая ее с другой стороны.
Счастливцы – творцы пессимистических теорий! Они не только уклоняются от создания чего-либо, но также и радуются объясненному ими, и включаются во всеобщую боль.
Я не жалуюсь на мир. Не протестую во имя вселенной. Я – не пессимист. Страдаю и жалуюсь, но не знаю, общим ли является это страдание, не знаю, является ли человеческим свойством – страдать. Какая мне разница знать, правильно это или нет?
Я страдаю, не знаю, заслуженно ли. (Преследуемая косуля.)
Я – не пессимист, я печален.
Я всегда отказывался от того, чтобы меня понимали. Быть понятным – бесчестить себя. Предпочитаю, чтобы меня принимали всерьез, как того, кем я не являюсь, не зная меня как человека, во всей чистоте и естественности.
Если бы в конторе меня чуждались, это возмутило бы меня. Хочу наслаждаться иронией того, что меня не чуждаются. Хочу носить власяницу – чтобы меня считали подобным всем им. Хочу крестной муки, состоящей в том, чтобы меня не выделяли из других. Есть муки более утонченные, чем испытанные святыми и отшельниками. Есть мучение разума, как телесные муки и муки желания. И от тех и от других можно испытывать наслаждение…
Юноша паковал свертки, поступавшие каждый день, в холодных сумерках просторной конторы. «Какой сильный гром», – сказал он никому, громко, тоном, каким жесточайший разбойник говорит: «Добрый день». Мое сердце снова начало биться. Апокалипсис закончился. Наступила пауза.
И, успокаивая меня, – свет сильный и ясный, пространство, звук грома – этот близкий грохот, уже удалявшийся, успокаивал нас самим своим присутствием. Господь удалялся. Я ощутил, что дышу полными легкими. Заметил, что в конторе душно. Обратил внимание, что в конторе есть люди, а юноши нет. Все молчали. В воздухе носилось что-то дрожащее и тревожное, для этого было веское, тяжелое основание: Морейра внезапно повернул вперед, чтобы проконтролировать служащих.