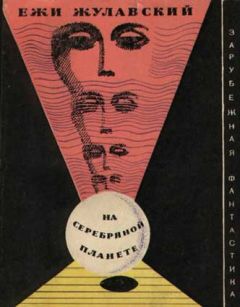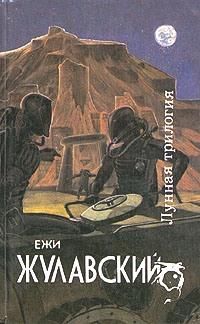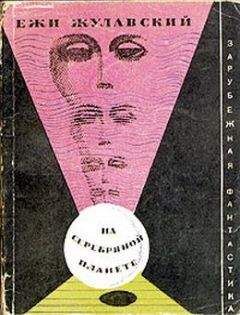Владимир Чернов - Искушения и искусители. Притчи о великих
Сын не забыл. У отца был порок сердца, по тем временам болезнь неизлечимая, и когда он умер, сын тяжело заболел. У него началась депрессия, он не хотел больше жить. Вот тогда-то его и стали брать с собой на гастроли артисты Малегота. Они хотели спасти его.
В жуткий холод, зимой, они отправились в город Орск с мальчиком, тащившим за спиной казенную виолончель номер восемь.
— Нас ехало шестеро, я всех помню по именам. Там была Ольга Николаевна Головина, Изя Рубаненко, пианист, аккомпаниатор, Борис Осипович Гефт, тенор, мой опекун в дальнейшем, любитель «Арии» Баха, Коля Соколов и Светлана Шеина — пара из балета, взрослые люди, заслуженные артисты. И я. Вошли мы в общий вагон, мне досталась боковая полка, на которую я и лег, потому что ехали мы в ночь. И сразу же погасили свет в вагоне, и каждый из взрослых стал не раздеваться, а, напротив, что-то дополнительно на себя надевать. Потому что одеяльца нам выдали прозрачные. Мне нечего было на себя надеть, да и та одежка, в которой я пришел, была аховая. Я скорчился под своим одеяльцем, и поезд тронулся. Я никак не мог согреться и понял, что уже не согреюсь, в вагоне становилось все холоднее. Ночь, мрак, как в каком-то круге ада, умерший отец позади, впереди неизвестность, я еду куда-то никому не нужный. И я, помню, подумал, как было бы замечательно сегодня во сне умереть. И перестал сопротивляться холоду.
Проснулся я в полной темноте от того, что мне было жарко. Одеяло стало почему-то толстым и тяжелым. Я пальцами в темноте начал перебирать его и обнаружил, что всего на мне лежит шесть одеял. Каждый из ехавших со мной, не сговариваясь, в темноте укрыл меня собственным одеялом.
Позже, когда меня лишили уже гражданства, я говорил друзьям, которые требовали от меня злобы: а вот за эти одеяла я еще не расплатился. И может быть, никогда не расплачусь. Вот эти пять артистов, мой отец и масса других людей, согревавших меня каждый по-своему, — моя страна, и я ей должен до сих пор.
То, что дал ему отец, помогло Ростроповичу попасть в число музыкантов, упорным трудом добывавших для родины валюту. Родина выпускала их для этого за границу, а по приезде отбирала добытое.
Стезя, на которой трудился сын, страшно далека была от народа. Его искусство, за которое Запад платил больше, чем за продукцию какого-нибудь советского завода, внутри страны употреблялось в основном в минуты роковые. Симфоническую музыку советский народ слушал в дни, когда партии и правительству нечего было ему сказать. Все радиостанции Советского Союза издавали тогда величественные звуки симфоний, увертюр, вокализов — пафос без слов.
Между тем за границей, помимо валюты и искренней любви к музыке, которую Ростропович играл, он обнаружил принципиально иной способ жить, нежели тот, какому следовал его папа. Здесь в ходу был девиз: «Никто не придет за тобой. Потому что ты никому не интересен, не обольщайся. Иди сам. Заинтересуй того, кто нужен тебе, и получишь все». Из этой длинной формулы следовало, как и предупреждали компетентные товарищи, что на проклятом Западе все покупается, потому что все продается. Однако он извлек из нее основное: «Иди сам!»
Еще до житья на Западе, еще на родине, он перестал ждать, пока его позовут. В меру возможностей он принялся жить так, как сам того хотел. И как считал нужным. Без оглядки на окружающих. Потому и упрекнуть его, жившего не по правилам, не стоило ничего.
Импровизации— Я тороплюсь, я хочу закончить цикл «Сто мировых премьер». Причем половину с оркестром, которым я дирижирую, половину я играю сам. Хочется как можно больше наиграть произведений, которые останутся на века. У меня — «теория семи». Обычно я играю шесть произведений, и я стараюсь, только Бог видит, как я выкладываюсь, но все это напрасно.
А седьмое выпадает как награда. Я играю седьмое и понимаю — это гениальное сочинение. И иначе, чем через шесть посредственных, добраться до него пути нет. И я знаю — если я шесть раз не принесу себя в жертву, чтобы впервые исполнить неизвестные, только что написанные сочинения, Бог не даст седьмого.
— И много «седьмых»?
— Уже да. Симфония-концерт Прокофьева, оба концерта Шостаковича, концерты Дютийе, Пендерецкого, концерт Шнитке и потрясающее виолончельное сочинение, которое ждет еще большое будущее, концерт Бориса Чайковского. Есть такой композитор. Его концерт, я считаю, гениальный. Я сейчас не играю его, потому что это сложная вещь, я давно ее не играл, а с налета его не повторишь. Значит, надо выкраивать время из подготовки новых вещей, а на это я пойти не могу.
— Но…
— Да. Но вдруг звонок из Сан-Франциско: «Слава, мы сейчас организуем семидесятилетие Исаака Стерна. Вы приедете?» Я говорю: «Да. Все брошу и приеду». Почему? Потому что Стерн не просто мой друг, он практически сам организовал и провел мое шестидесятилетие в Вашингтоне. Сделал программу, позвал людей. И каких! Иегуди Менухин, Пендерецкий, Бернстайн, сам Стерн, естественно, и был потрясающий концерт, а в конце жена президента Нэнси Рейган взяла дирижерскую палочку и продирижировала моим оркестром: «Счастливого дня рождения!» — традиционная американская деньрождественская мелодия. Разве я мог отказать Стерну? «А что я должен сделать?» — «Мы делаем такую смешную штуку. Исполняем „Карнавал животных“ Сен-Санса, а между номерами идет короткий текст, но не тот, который положено читать, типа: „Вот какие солидные слоны“ и идет „Слоновья полька“, а другой, связанный с жизнью Стерна, читать его будет Грегори Пек. Вам предстоит сыграть „Умирающего лебедя“. Перед этим Грегори Пек станет говорить о том, что вот Айзек Стерн встретил в таком-то году замечательно красивую Верочку, которая стала потом спутницей всей его жизни. После чего ваш выход. И все».
— Представляешь? Черт-те что! Значит, я помчусь в Сан-Франциско, черт знает откуда, из Европы, чтобы в течение нескольких минут сыграть там на виолончели? Глупость какая-то. Нет, это не будет являться выдающимся вкладом в день рождения Стерна, нет. «Стоп! — говорю я этому посланцу телефонному. — Давайте так: я приеду только в том случае, если вы немедленно пришлете ко мне человека из Сан-Франциско, театрального портного, чтоб он обмерил мою талию и сшил подходящий костюм». — «О’кей!» — говорит этот человек, и действительно через некоторое время является ко мне портной из Сан-Франциско, измерил мне талию, и, по-моему, сантиметр у него на моей талии не сошелся. «Чего будем шить?» — интересуется.
Много дал бы я за то, чтобы посмотреть на лицо портного, выслушивающего заказ. Великий Маэстро пожелал, чтобы к концерту ему была сшита балетная пачка. После этого он снял ботинок и велел измерить и его, поскольку ему были нужны к концерту же балетные туфли. «О’кей!» — говорит, не дрогнув, портной и удаляется, слегка отвесив нижнюю челюсть. «Да! — крикнул ему вслед Великий Маэстро. — И чтоб имени моего не было в программе!»