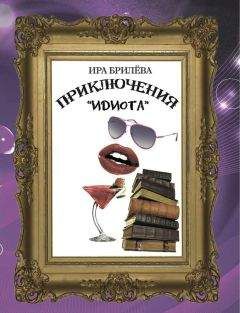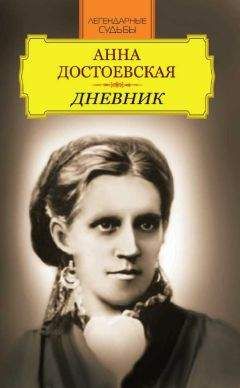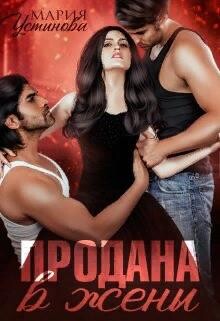Невероятная жизнь Фёдора Михайловича Достоевского. Всё ещё кровоточит - Нори Паоло
Мне было приятно узнать, что Элизабет считает меня серьезным молодым человеком, хотя, на мой взгляд, она ошибалась. Дело в том, что сидеть дома и готовиться к экзаменам, тем более по такому предмету, как русская литература, мне нравилось гораздо больше – даже как-то неудобно в этом признаваться, – чем ходить на вечеринки или в кино.
Немало лет потребовалось мне, чтобы понять, что я не люблю развлекаться. Зато есть вещи, которые заставляют меня плакать, например русская литература и игра нашей «Пармы» [43]. Вот их я люблю гораздо больше.
И, если игру «Пармы» мы здесь обсуждать не будем – она не имеет отношения к теме этой книги, то русская литература как раз имеет: я люблю ее не только потому, что она меня ранит, о чем уже говорилось, но и потому, что для меня она – инструмент самовыражения.
Стоит мне подумать о Тольятти, главной женщине моей жизни, или о Батталье, главной девочке моей жизни, как в памяти всплывают строки: «Девушки, те, что шагают / Сапогами черных глаз / По цветам моего сердца». Так начинается одно из стихотворений русского поэта Велимира Хлебникова.
Просто как пример.
Работа над этой книгой совпала с периодом пандемии, о чем я уже упоминал, когда нельзя было лишний раз выйти на улицу и все вечеринки откладывались до лучших времен, но я думаю, что не стал бы выходить, даже если бы никто не запрещал, потому что предпочитал компанию Достоевского и то ощущение родства, которое дают его книги. Об этом говорил Толстой, и, пожалуй, даже лучше Толстого (если такое возможно) эту мысль выразил Василий Розанов:
«Чудо творений Достоевского заключается в устранении расстояния между субъектом (читающий) и объектом (автор), в силу чего он делается самым родным из вообще существующих, а может быть, даже и будущих писателей, возможных писателей. Это несравненно выше, благороднее, загадочнее, значительнее его идей. Идеи могут быть всякие, как и «построения», но этот тон Достоевского есть психологическое чудо. Идеи были у вас и прошли… Но свои идеи и прошедшие – дороги. Вот почему все идеи Достоевского могут пройти, или могут оказаться ложными, или вы их перестанете разделять, – и от этого духовный авторитет Достоевского нисколько не уменьшится. Это – чудо».
Каждому читателю дорого у Достоевского что-то свое. Мне, честно признаюсь, нелегко сделать выбор, но все-таки больше всего я люблю у него две книги – «Идиот» и «Записки из подполья»: в них он создает два диаметрально противоположных образа. Один, в которого невозможно не влюбиться, отличается невероятной добротой; его прообразами послужили Иисус Христос и Дон Кихот, ему же приписывают фразу: «Красота спасет мир». Другой – человек из подполья, вызывающий чувство гадливости; он болен, но лечиться не хочет, ему не дает покоя, что думают другие, он одержим мыслью: «Я-то один, а они все». Наверное, есть на свете люди, которым такая мысль никогда не приходила в голову; что тут скажешь: мы с ними из разных миров. Из всех авторов, которых я прочитал за последние пятьдесят с лишним лет (с тех пор как научился читать), только Достоевскому удалось выразить эту мысль настолько ясно и просто: «Я-то один, а они все».
12 ноября 1859 года Достоевский писал брату Михаилу из Твери, где ожидал разрешения вернуться в Петербург:
«Точно мы какие-то проклятые вышли. Смотришь на других: ни таланту, ни способностей – а выходит человек в люди, составляет капитал. А мы бьемся, бьемся… Я уверен, например, что у нас с тобой гораздо больше и ловкости, и способностей, и знания дела (sic), чем у Краевского и Некрасова. Ведь это мужичье в литературе. А между прочим, они богатеют, а мы сидим на мели. <…> Нет, брат, надо подумать, да еще и серьезно; надо рискнуть и взяться за какое-нибудь литературное предприятие, – журнал например… Впрочем, об этом подумаем и поговорим вместе.
Из романа моего действительно мало вышло: 13–14 листов. Очень немного, и я получу меньше, чем рассчитывал. Но что за нужда! Присылай мне, ради бога, отдельный экземпляр, еще до выхода книжки; пойми, как всё это меня интересует».
В рецензии на французское издание переписки Достоевского Андре Жид отмечает: «Мы ожидали увидеть божество, а перед нами человек – больной, бедный, вечно беспокойный. <…> Если есть читатели, надеющиеся увидеть здесь мастерство, литературные достоинства или позабавить свой ум, я сразу же скажу, что они лучше сделают, если оставят это чтение. <…>
Пожалуй, у нас еще не было примера писательских писем, написанных так дурно, то есть столь нарочито. Достоевский, так прекрасно умеющий говорить от чужого лица, затрудняется, когда ему надо говорить от своего лица…»
Позднее на конференции [44] 1922 года Андре Жид скажет:
«Писатель, который себя ищет, подвергается большой опасности: он рискует найти себя. С этой минуты он будет писать только холодные, уверенные, похожие на него самого произведения. Он будет подражать себе самому. Если он узнал теперь свои пределы, свои грани, то лишь затем, чтобы уже не переступать их. Он уже не боится быть неискренним, он боится быть непоследовательным. Истинный художник, когда творит, почти не сознает себя. Он не знает в точности, кто он. Ему удается познать самого себя только через свое произведение, только благодаря своему произведению, только после его создания. <…>
Достоевский никогда не искал себя; он со всей страстью отдавался своему творчеству. Он терял себя в каждом из своих героев, вот почему мы находим его в каждом из них».
По-видимому, Достоевский до конца в себя так и не поверил и на тот вопрос, которым он задавался в июне 1845 года на Невском проспекте, покинув квартиру Белинского и выйдя на улицу: «И неужели вправду я так велик?» – к счастью для нас, ответить так и не смог.
Его письма переполнены насущными заботами, за которыми проступают, словно в контражуре, образы его героев, настоящих и будущих.
И разве фраза «я-то один, а они все», знакомая нам по «Запискам из подполья», родилась не из наблюдений Достоевского о том, что Краевский и Некрасов, хоть они и «мужичье в литературе», тем не менее богатеют, а он вынужден сидеть на мели?
В декабре 1859 года писатель возвращается в Петербург. Ему тридцать восемь, и выглядит он уже тем Достоевским, каким мы привыкли его видеть.
Одна моя подруга говорит, что Достоевский в старости похож на Джованотти [45]. Отчасти это верно: они действительно похожи, но Достоевскому не хватает жизнерадостности Джованотти, он напоминает Джованотти, у которого плохо идут дела и который прекрасно это понимает. Такой Джованотти-сирота, осознающий свое сиротство.
Достоевский и вправду сирота.
Когда в феврале 1837 года умерла его мать, ему было пятнадцать лет. А в июне 1839-го, когда ему было семнадцать, не стало отца.
Уже больше двадцати лет Достоевский сирота, но только теперь, после суда и лишения всех чинов, после десяти лет ссылки, четыре из которых он провел на каторге, после тех хвалебных од, которые вышли из-под его пера, он и внешне становится похож на сироту.
И если сирота в пятнадцать лет – это страшно и неправильно, то во взрослом сироте есть что-то нелепое, вызывающее насмешку.
Знаю это по своему опыту.
Для меня 11 сентября – это не 11 сентября 2001 года, день террористической атаки на башни-близнецы, а 11 сентября 1999 года, когда умер мой отец.
В учебниках истории никогда не напишут о смерти Ренцо Нори.
Мне было тридцать шесть, а не пятнадцать, как Достоевскому, я осиротел уже взрослым и в своем горе выглядел нелепо. На самом деле все началось еще раньше, зимой 1998 года, в одном из южных районов Пармы, в доме на виа Кадути ди Монтелунго, неподалеку от виа Мартири ди Чефалония, виа Кадути э Дисперси ин Руссиа, Ларго Кадути Эджео и виа Анна Франк – в квартале с довольно забавной топонимикой [46], где прошла моя юность. Однажды среди дня у меня зазвонил телефон – старый серый дисковый телефон, стационарный аппарат времен моей юности, стоявший на деревянной полке (такие полки часто вешали в прихожих), я снял трубку, это была мама, мы поговорили о каких-то ничего не значащих вещах, о чем – я даже не вспомню, и, когда я уже собирался прощаться, она сказала: «Подожди, папе сделали рентген, у него рак легких. Он ничего не знает. Мне сказал врач, просил папе не говорить. И еще врач сказал, что случай неоперабельный».